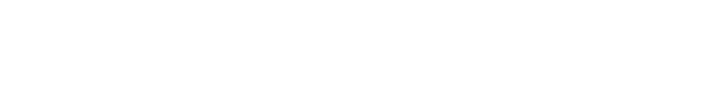
Получить консультацию
Специалисты приемной комиссии расскажут про акции и ответят на ваши вопросы
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных и получение сообщений от Среды обучения.

«Нашу культуру структурирует сознание ежедневного обновления»
Борис Гройс, известный теоретик искусства и автор книг «В потоке», «Русский космизм», «О новом. Опыт экономики культуры» — о том, как меняется производство и потребление культуры, о ностальгии и удивлении зрителя по отношению к классическим формам искусства и о том, как музей адаптируется к современности.
— На какие ключевые тенденции того, как меняется современный музей, вы хотели бы обратить внимание молодых авторов и теоретиков?
— Я думаю, что они, если пойдут в музей, и сами обратят на это внимание. Сегодня музей все менее и менее представляет собой место для демонстрации постоянной коллекции и все более превращается в пространство для различных событий, связанных с искусством. Это могут быть временные выставки, перформансы, лекции, дискуссии, скрининги фильмов и так далее. То есть в музее уже много лет развивается, а сейчас и интенсивируется такая активность, поэтому мне кажется, что музей во многом теперь, во всяком случае в крупных городах Запада, стал таким центром притяжения, центром городской культуры.
— Как вы считаете, будет ли подобная тенденция распространяться в отношении музеев небольших городов? Как вы отмечаете подобную динамику?
— Вы знаете, мне трудно об этом судить, потому что нельзя сказать, чтобы я хорошо знал, что происходит в целом в России, но мне кажется, что везде распространяются одни и те же тенденции. В Москве эти тенденции видны. Там тоже не только «Гараж», но и, скажем, Третьяковская галерея и другие музеи идут по пути такого превращения в сцену, по существу, или превращения в выставочное пространство с очень гибкой и постоянно актуализируемой программой. Сейчас многие архитекторы думают о том, чтобы создать такое пространство — например, в Нью-Йорке существует проект Shed, в котором внутренняя конфигурация помещений в выставочном пространстве меняется. Таким образом, вы можете постоянно перестраивать внутреннюю архитектуру этого пространства, превращая его то в выставочные залы, то в концертный зал, то в театральный зал и так далее.
проект Shed
— Считаете ли вы, что возможности, позволяющие молодым авторам и теоретикам создавать внеинституциональные объединения, такие как издания или галереи, в целом свидетельствуют о деэлитаризации экономики искусства?
«Сейчас культура все-таки ориентирована на массового потребителя и на массовую публику. Она вообще только тогда успешна, когда принята и коммерчески успешна в большом пространстве массовой культуры»
— Это зависит от того, как понимать элитарность. Я бы сказал, что это, наоборот, элитаризация, потому что в основном сейчас культура все-таки ориентирована на массового потребителя и на массовую публику. Она вообще только тогда успешна, когда принята и коммерчески успешна в большом пространстве массовой культуры. Так что создание каких-то более узких групп, менее коммерциализированных и менее ориентированных на массовый успех, — это как раз стремление к созданию, я не могу сказать элитарного, но альтернативного пространства, которое не было бы столь ориентировано на массового зрителя, как это происходит с мейнстримной культурой.
— В одной из своих последних статей вы говорите о запросе на замедление искусства. А можно ли сказать, что подобный запрос может вызвать всплеск интереса к классическому искусству? Как вы оцениваете роль и место, которое в нынешней социокультурной ситуации занимают традиционные формы искусства?
— Я думаю, что нет. У меня ощущение, что я это говорил в основном в контексте обсуждения фильма и видео, о том, что все время происходит замедление движения в фильме, движения в видео. Здесь происходит сдвиг в сторону от, скажем, демонстрации какого-то действия, которое происходит на экране, в качестве имеющего четкие начало и конец, к его процессуальной интерпретации, то есть все движется настолько медленно, что ты забываешь о начале, уже не ждешь конца, а просто следишь за самим движением. Вот эта вот процессуальность искусства — это то, что я имел в виду.
Картину, напротив, можно охватить одним взглядом, а скульптуру — быстро обойти вокруг. Конечно, вы можете потом пуститься во всякие интерпретации, но это уже не визуальная деятельность, а интеллектуальная. Когда я говорил о замедлении искусства, я имел в виду как раз переключение на длительные, процессуальные формы искусства, какие-то проекты, которые, может быть, длятся годами, какие-то очень медленные формы функционирования того, что мы называем пространством искусства. Например, Риркрит Тиравания завел какую-то экологическую ферму, и это очень длительный проект, потому что все долго растет. Такие вещи я скорее имел в виду, нежели традиционное искусство. Оно как раз быстро схватывается. И в этом ответ на ваш второй вопрос. Традиционные формы будут всегда присутствовать, потому что мы живем в мире, в котором хотим быстро что-то увидеть, и увидеть с начала до конца. Чем хороша традиционная выставка? Тем, что вы можете пройти ее очень быстро, вы очень быстро схватываете, что на ней находится. Обычно взгляд задерживается только на видео, если оно интегрируется в современное выставочное пространство.
Картину, напротив, можно охватить одним взглядом, а скульптуру — быстро обойти вокруг. Конечно, вы можете потом пуститься во всякие интерпретации, но это уже не визуальная деятельность, а интеллектуальная. Когда я говорил о замедлении искусства, я имел в виду как раз переключение на длительные, процессуальные формы искусства, какие-то проекты, которые, может быть, длятся годами, какие-то очень медленные формы функционирования того, что мы называем пространством искусства. Например, Риркрит Тиравания завел какую-то экологическую ферму, и это очень длительный проект, потому что все долго растет. Такие вещи я скорее имел в виду, нежели традиционное искусство. Оно как раз быстро схватывается. И в этом ответ на ваш второй вопрос. Традиционные формы будут всегда присутствовать, потому что мы живем в мире, в котором хотим быстро что-то увидеть, и увидеть с начала до конца. Чем хороша традиционная выставка? Тем, что вы можете пройти ее очень быстро, вы очень быстро схватываете, что на ней находится. Обычно взгляд задерживается только на видео, если оно интегрируется в современное выставочное пространство.
The Land, деревня-коммуна в тайской провинции Чианг-май, основанная Риркритом Тиравания и другими художниками при участии местных жителей
— А какова может быть судьба классической живописи и скульптуры? Окончательно отказаться от этих форм пока все-таки не представляется возможным?
— Дело в том, что если вы говорите о классике, то есть, грубо говоря, о Леонардо да Винчи и Рембрандте вплоть до Пикассо, и я не знаю, о ком еще, то эта классика европейской культуры всегда будет в музеях, всегда будет присутствовать, всегда будет интересна. Если вы имеете в виду, в какой мере современное искусство может продолжать с успехом производство картин или скульптур в этой традиции, то можно сказать, что оно этим постоянно занимается, просто потому что если мы берем коммерческую сторону искусства, то есть галерейное искусство, искусство, рассчитанное на продажу коллекционерам, то здесь никакой процессуальности быть не может. Здесь есть ориентация на картину или на художественный объект, будь то скульптура или какой-то другой объект, то есть это должна быть какая-то вещь, которую можно выставить и продать. И поскольку художественный рынок существует и будет существовать и он даже расширяется последнее время, то можно считать, что художественный рынок именно является тем медиумом, который поддерживает традиционные формы искусства, в то время как более процессуальные или более событийные формы искусства скорее поддерживаются государственными музеями или крупными фондами, то есть они носят менее коммерческий характер.
— А как бы вы могли прокомментировать современную моду на зин-культуру? Есть ли в этой тенденции что-то, кроме ностальгии по обаянию материального носителя?
«Эстетизация предшествующих периодов материальной культуры — это характерная черта модернизма»
— Да, может быть, есть ностальгия, но эта ностальгия вообще характерна для искусства. Эстетизация предшествующих периодов материальной культуры — это характерная черта модернизма. Достаточно прочитать Вальтера Беньямина, он очень много пишет об этом.
Но, с другой стороны, в этом есть тот самый элемент элитарности, о котором я говорил, элитарности/маргинальности или альтернативности, то есть стремления найти какие-то более узкие, более ограниченные формы коммуникации, нежели те, которые господствуют в массовой культуре.
— Насколько долговечна эта мода, если ее можно так назвать?
— Эта мода недолговечна, то есть мода на эти конкретные формы существования культуры, думаю, недолговечна, но ностальгическое отношение к предыдущим формам культуры — это стабильная черта развития европейской культуры на протяжении очень длительного времени, практически начиная с Ренессанса. Собственно говоря, Ренессанс и начался с того, что люди стали собирать обломки и черепки старой, античной культуры. Это, в общем, все то же самое. Всегда европейская культура ностальгировала по поводу предыдущей стадии своего развития. Это было у прерафаэлитов: стиль модерн начался, собственно говоря, со стилизации предыдущих, кустарных форм функционирования культуры в индустриальную эпоху. Энди Уорхол в свое время говорил, что его интересуют только leftovers, то есть то, что отброшено, то, что осталось, то, что не используется. Это действительно очень характерно для культуры нашего времени, это так и останется.
— Можно ли тогда в широком смысле связать эту упомянутую вами романтизацию предыдущих форм культуры с понятием антиквариата?
— Здесь опять же проблема возникает в стоимости. Я бы так сказал, что этот интерес иногда приводит и иногда не приводит к возникновению антиквариата. Когда мы говорим об антиквариате, мы все-таки говорим о каких-то вещах, которые имеют большую коммерческую ценность. Я думаю, что эта ностальгия, о которой мы говорим, находится в зоне того, что уже устарело и не используется, но еще не стало антиквариатом и, может быть, никогда не станет. Это интерес к тому, что люди выбрасывают, к тому, что никому не нужно, что не имеет никакой ценности. Вот смотрите, если вы идете в музеи и смотрите на период 1960-х годов, арте повера, то же самое, например, Энди Уорхол, что вы видите там? Вы видите там старые афиши, вы видите упаковки типа Brillo Box — то, что люди обычно выбрасывают, когда они покупают какие-то продукты, какие-то банки с кока-колой, которые тоже люди выбрасывают, когда они эту кока-колу выпивают. То есть этот интерес к тому, что выбрасывается, что не учитывается, что не имеет ценности само по себе, это как раз привлекает современное искусство, привлекало всегда искусство модернизма и продолжает привлекать современное искусство.

Andy Warhol Brillo Pouf
— Философ Валерий Подорога недавно высказал пессимистическую позицию в отношении книжной культуры и, как следствие, культуры чтения, связав ускорение употребления информации с отказом от книги, в первую очередь как материального предмета, но и также обозначил весь этот процесс как определенный кризис гуманитарного знания. Разделяете ли вы его опасения?
— Я бы сказал, что написание книги, а также прочтение книги, особенно если книга достаточно толстая, — это попытка выйти из потока обыденной жизни в какое-то другое пространство, трансцендентное этому потоку, пространство, которое обладает определенной трансисторической стабильностью, обеспечиваемой музеями, библиотеками, и так далее, и так далее. У меня — действительно, я здесь согласен с Подорогой, — есть ощущение, что эта воля к трансцендированию обыденного потока жизни путем опредмечивания культуры — эта воля потерялaсь, и желание этим заниматься потерялось. Сейчас люди много общаются. Они общаются в социальных сетях, они много пишут, фотографируют, посылают свои фотографии, то есть идет слияние культурной продукции с потоком обыденной жизни. Я бы не сказал, что это отказ от культуры. Я считаю, что это трансформация культуры, трансформация, которая опять же, как я уже говорил, подчеркивает ее процессуальный характер, то есть мы все время находимся в процессе обыденной жизни, которая одновременно и процесс культуры. Мы не выходим из этого потока куда-то вовне него, не пытаемся трансцендировать его и что-то оставить потомкам или прочесть что-то, что нам оставили предки. Это желание выходa в трансисторическое, сверхвременное пространство исчезло. Хорошо ли это или плохо — очень трудно сказать. Просто это другая форма культуры. Действительно, насчет гуманитарного знания я согласен с Подорогой в том смысле, что если под гуманитарным знанием понимать исследование культурных продуктов, то для него исчезает пространство, потому что сами эти продукты как бы растворяются в потоке жизни и здесь не остается ничего, что можно исследовать. Но если гуманитарное знание теряет свою обычную сферу приложения, это не значит, что оно полностью исчезнет. Оно тоже, может быть, как-то трансформируется во что-то другое.
— Вы отчасти ответили на мой следующий вопрос о музеефикации обыденности и связанной с ней определенной десакрализации тех пространств, которые в предыдущие эпохи связывались с пространствами культуры, в том числе и музейным пространством.
«Mузей — это то пространство, в котором вещи теряют свою энергию, теряют свою силу, теряют свою магию»
— Я бы не сказал, что происходит десакрализация музея, потому что музей сам по себе уже являлся результатом десакрализации или секуляризации церкви. Mузей — это то пространство, в котором вещи теряют свою энергию, теряют свою силу, теряют свою магию.
Иконы стали картинами. Что oзначaeт, что икона стала картиной? Это oзначaeт, что она перестала быть чудотворной, она утратила свою магию, она стала просто вещью. В этом смысле музей провел уже работу десакрализации, но он действительно сохранил внеисторическое измерение культуры. Оно уже не сакральное, но оно все-таки трансцендирует, как я говорил, поток обыденной жизни. Сейчас я не сказал бы, что происходит музеевизация обыденности, потому что-то, что происходит в медиа, — это тоже, собственно говоря, тот же самый поток: на следующий день люди уже забыли, что было в предыдущий день, и уже снова обмениваются какими-то лайками и впечатлениями. Эта ориентация на сегодня, на то, что происходит сейчас, связана с забвением того, что было раньше, и отсутствием интереса к тому, что придет потом. Сосредоточенность на том, что есть сегодня, не предполагает никакой музеевизации. Она предполагает исчезновение того, что есть сегодня, и просто переход к тому, что будет завтра. Это способ существования культуры, который, если угодно, может быть, я с вами согласен, представляет собой следующий, заключительный этап десакрализации традиционной культуры. Если церковь утверждала не только наличие трансцендентного, но и то, что трансцендентное имеет какую-то силу, трансцендентное — это Бог, который может повлиять на жизнь, музей этого уже не утверждает. Это просто собрание вещей, представляющих интерес, а сейчас они уже и интерес утратили.
— В чем тогда присутствуют сегодня эта магия и сакральное? Имеет ли оно вообще место сегодня?
— Мы имеем дело с абсолютно нигилистической культурой, которая не признает магии, которая не признает ничего сакрального. Впрочем, в ней, и это хорошо подметил Хайдеггер в своих статьях последнего периода, сохранилось удивление. В современном мире все вызывает удивление, потому что все неизвестно откуда взялось. Из-за того, что прошлое исчезло, никакая генеалогия настоящего у нас в головах не сидит, общего никакого проекта нет, проекта на будущее тоже нет, все происходит сейчас, и все вызывает удивление. Вот это удивление, которое все чувствуют, я думаю, — это есть то последнее чувство, которое нас связывает с традиционными культурными формами, с традиционной магией или с традиционной трансцендентной культурой, музейной культурой.
— Оно связано сегодня в первую очередь с глобализацией и интенсивным культурным обменом или с чем-то еще?
«Сознание постоянного, перманентного изменения и ежедневного обновления — это то, что, по существу, структурирует нашу культуру сейчас»
— Нет, я не думаю, что это связано с глобализацией. Я думаю, что это связано с капитализмом, с рынком. Дело в том, что если мы берем традиционные формы культуры, скажем, христианские, то они базировались на некотором охватывающем историю проекте.
Сначала был первородный грех, потом искупление, потом апокалипсис, то есть был какой-то общий трансисторический проект. Коммунистический проект был тоже охватывающим всю историю проектом. И даже проект просвещения был таким трансисторическим проектом. То есть было много таких проектов, которые были сами по себе трансисторичны, и эти трансисторичные проекты давали возможность упорядочить историю и, в частности, упорядочить музейные и библиотечные экспозиции. Они всегда базировались на определенном трансисторическом порядке, а этот трансисторический порядок базировался на трансисторическом проекте.
При капитализме главное — это конъюнктура сегодняшнего момента, то есть как соотносятся сегодня доллар с евро, какие акции упали, какие акции поднялись, и это все меняется каждый день, причем меняется не так, что становится понятно, откуда возник этот подъем, откуда возник спад. Почему мы интересуемся только сегодняшним днем? Потому что люди, которые умерли, люди прошлого, не могут ничего ни купить, ни продать, они нам неинтересны в рамках экономики. Люди, которые еще не родились, тоже не могут ничего купить и продать, поэтому они тоже нерелевантны в экономике. Релевантны в экономике те, которые живут здесь и сейчас, то есть те, которые могут что-то купить и продать, но их покупательная способность или их способность что-то продать зависит от рыночных конъюнктурных констелляций, которые меняются каждый день. Вот это сознание постоянного, перманентного изменения и ежедневного обновления — это то, что, по существу, структурирует нашу культуру сейчас.
При капитализме главное — это конъюнктура сегодняшнего момента, то есть как соотносятся сегодня доллар с евро, какие акции упали, какие акции поднялись, и это все меняется каждый день, причем меняется не так, что становится понятно, откуда возник этот подъем, откуда возник спад. Почему мы интересуемся только сегодняшним днем? Потому что люди, которые умерли, люди прошлого, не могут ничего ни купить, ни продать, они нам неинтересны в рамках экономики. Люди, которые еще не родились, тоже не могут ничего купить и продать, поэтому они тоже нерелевантны в экономике. Релевантны в экономике те, которые живут здесь и сейчас, то есть те, которые могут что-то купить и продать, но их покупательная способность или их способность что-то продать зависит от рыночных конъюнктурных констелляций, которые меняются каждый день. Вот это сознание постоянного, перманентного изменения и ежедневного обновления — это то, что, по существу, структурирует нашу культуру сейчас.
— Можно ли считать, что современное искусство все больше начинает зависеть от технологических новшеств и открытий? И есть ли у вас свой прогноз о будущем отношений между искусством и технологиями?
— Честно говоря, если посмотреть на художественный рынок — а все-таки большая часть искусства производится для художественного рынка, — то становится ясно, что именно традиционные формы, очень традиционные формы искусства, как мы уже говорили, имеют на нем хождение. В конечном счете в структуре культуры, в которой мы живем, искусство так же, как и литература, — это сфера деятельности индивидуума, то есть это то, что может сделать человек. Он может нарисовать картину, он может написать книгу, он может оставить какой-то месседж в интернете или в социальных сетях, он может что-то сфотографировать. Вот то, что может сделать человек, — это то, на чем сконцентрировано его внимание. В этом смысле наша культура остается в гуманистической парадигме, в то время как технологические процессы — это процессы, которые осуществляются очень большими коллективами, огромными корпорациями и государствами. В этом индивидуальный человек не может участвовать, в том смысле, что он не может подчинить технологические процессы своей воле или своему художественному видению. Это пытались делать русские авангардисты в 1920-х годах, они об этом мечтали, но из этого ничего не получилось, как мы знаем. С другой стороны, художник может пользоваться новой технологией и делает это, используя и фотографию, и видео, и средства массовой информации, и социальные сети, но именно не как участник этих технологических процессов, а просто как человек, который использует те результаты, которых они достигли.

Советский авангард 1920-1930-х годов
— Какие тенденции вами подмечены в последнее время в области теории искусства, кураторства, философии искусства и какие стоило бы поддерживать и развивать именно в российской среде?
— Вы знаете, я довольно много участвовал в последнее время во всяких дискуссиях по поводу образования здесь, на Западе, и должен сказать, что все в этом смысле находятся в полной растерянности, потому что чему учить — собственно говоря, непонятно. Я всегда вспоминаю в этом смысле хороший текст Малевича о художественном образовании, в котором он писал, что художественное образование — это тип заражения: люди заражаются идеями и представлениями, как микробами, как бациллами, и это заражение происходит не оттого, что кто-то им что-то объяснил, а просто оттого, что они живут в какой-то определенной среде. Это, конечно, связано с тем, о чем мы говорили раньше, a именно — с возникновением групп или сред, в основном в больших городах, в которых люди заражаются какими-то общими представлениями, интересами, идеями, — вот это, мне кажется, продуктивная форма вхождения в современное искусство. Мне не кажется, что здесь можно научить человека, — может быть, только технологии, как снимать или как рисовать. Наверное, эта техническая сторона по-прежнему важна, но с точки зрения, что называется, концептуальной речь идет просто об определенного рода восприимчивости — восприимчивости к тому, что происходит вокруг, o способности заразиться окружающим, которая действительно делает искусство более интересным.
Беседовала Мария Пророкова, научный журналист, м.н.с. сектора аналитической антропологии Института философии РАН
Share некоторых материалов с благодарностью у: aroundart.org / quinzeandmilan
К ДРУГИМ МАТЕРИАЛАМ
Хотите регулярно получать образовательные материалы «Среды обучения»? Подпишитесь на нашу рассылку! Отправляя свои контактные данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
