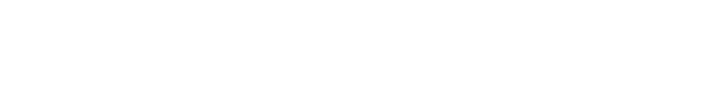
Получить консультацию
Специалисты приемной комиссии расскажут про акции и ответят на ваши вопросы
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных и получение сообщений от Среды обучения.
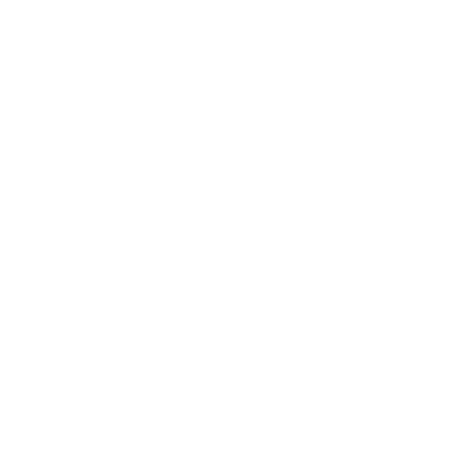
Художественная выставка в эпоху интернета
Философ и теоретик искусства Борис Гройс предлагает поразмышлять о феномене художественной выставки в эпоху интернета. Как возможна встреча зрителя и искусства в эпоху интернета? Искусство способно сталкивать зрителя с новыми, неожиданными и даже шокирующими феноменами. А интернет предлагает контент, который соответствует пользовательским вкусам и привычкам. В интернете искусство становится информацией об искусстве, смешивается с гигабайтами информации о последних событиях, которую мы получаем ежедневно. Как это будет отражаться на формах искусства?
Прежде всего, я рад был приехать обратно в Москву, это понятно. И естественно, что есть какая-то инерция говорения на определенные темы в системе современного искусства. Потому что это пространство современного искусства, почти автоматически срабатывает какая-то уже определенная рутина. И последнее время, я думаю, что последние два-три года, а может быть, даже больше, практически единственная тема, которая обсуждалась, и все время как-то приходилось на эту тему говорить — я думаю, что в современной художественной системе это отношение глобального и локального. И, в сущности, это и будет темой моего сегодняшнего доклада.
«Куда бы ни занесла судьба, в какую бы область, или государство, или регион, все хотят как-то быть представлены глобально»
При этом эта тема, отношение локального и глобального, очень часто ставится следующим образом: как репрезентировать локальное в глобальном. Собственно говоря, куда бы ни занесла судьба, в какую бы область, или государство, или регион, все хотят как-то быть представлены глобально.
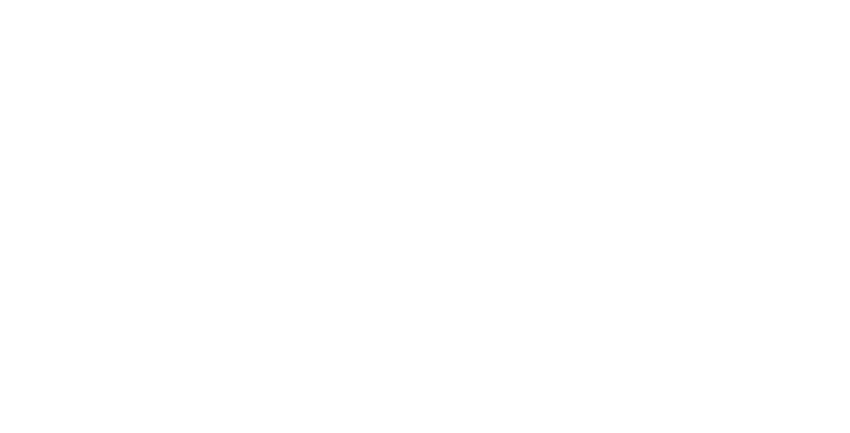
И вот этот вопрос, как локальное представить глобально, кажется очень важным. По целому ряду причин мое сегодняшнее выступление будет посвящено другой теме, а именно: как представить глобальное в локальном. По многим причинам, потому что это мне кажется более важной проблемой и, в сущности, исходной проблемой. То есть для того, чтобы представить себе, как локальное представить глобальным, следует начать с глобального, с какого-то понимания глобального контекста и с понимания того, как глобальное функционирует или может функционировать в локальном контексте.
При этом не надо забывать, что само по себе понятие локального, к которому мы очень привыкли, и практически все на эту тему рассуждают, как будто это само собой разумеющееся, тем не менее, если мы оглянемся на прошлое, то мы увидим, что никаких таких локализаций в прошлом не было. Даже к какому-нибудь племени, заброшенному где-то в бассейне Амазонки, мы ни обратились, не говоря уже к каким-то развитым культурам, они все имели мифы о сотворении мира и о конце мира, они все на самом деле мыслили универсально, космологически и глобально. Их Бог всегда был всеобщим Богом, и исходное их представление о мире было всегда универсальным.
Тот факт, что сейчас распространилось представление о частных культурных идентичностях, локальных культурных идентичностях, культурных идентичностях, основанных на гендере, на расе и на многих других параметрах, это на самом деле довольно новое и в каком-то смысле даже странное явление, не вполне даже четко объяснимое. Представление о собственном существовании как локальном и замкнутом в определенной идентичности предполагает уже некоторый взгляд на глобальное, определенный взгляд на глобальное, потому что иначе эту локальность просто невозможно и идентичность определить. И, собственно говоря, то, что я хотел сказать, это о том, как современный взгляд на глобальное формируется, и, конечно, сделать это в отношении искусства, прежде всего.
При этом не надо забывать, что само по себе понятие локального, к которому мы очень привыкли, и практически все на эту тему рассуждают, как будто это само собой разумеющееся, тем не менее, если мы оглянемся на прошлое, то мы увидим, что никаких таких локализаций в прошлом не было. Даже к какому-нибудь племени, заброшенному где-то в бассейне Амазонки, мы ни обратились, не говоря уже к каким-то развитым культурам, они все имели мифы о сотворении мира и о конце мира, они все на самом деле мыслили универсально, космологически и глобально. Их Бог всегда был всеобщим Богом, и исходное их представление о мире было всегда универсальным.
Тот факт, что сейчас распространилось представление о частных культурных идентичностях, локальных культурных идентичностях, культурных идентичностях, основанных на гендере, на расе и на многих других параметрах, это на самом деле довольно новое и в каком-то смысле даже странное явление, не вполне даже четко объяснимое. Представление о собственном существовании как локальном и замкнутом в определенной идентичности предполагает уже некоторый взгляд на глобальное, определенный взгляд на глобальное, потому что иначе эту локальность просто невозможно и идентичность определить. И, собственно говоря, то, что я хотел сказать, это о том, как современный взгляд на глобальное формируется, и, конечно, сделать это в отношении искусства, прежде всего.
«Художественный рынок продолжает быть очень традиционным, но в интернете художник получает новую роль»
В наше время распространение искусства, то есть в мировом масштабе, происходит по двум каналам: это художественный рынок и интернет. Художественный рынок оперирует объектами искусства, то есть какими-то вещами, которые могут быть проданы и куплены.
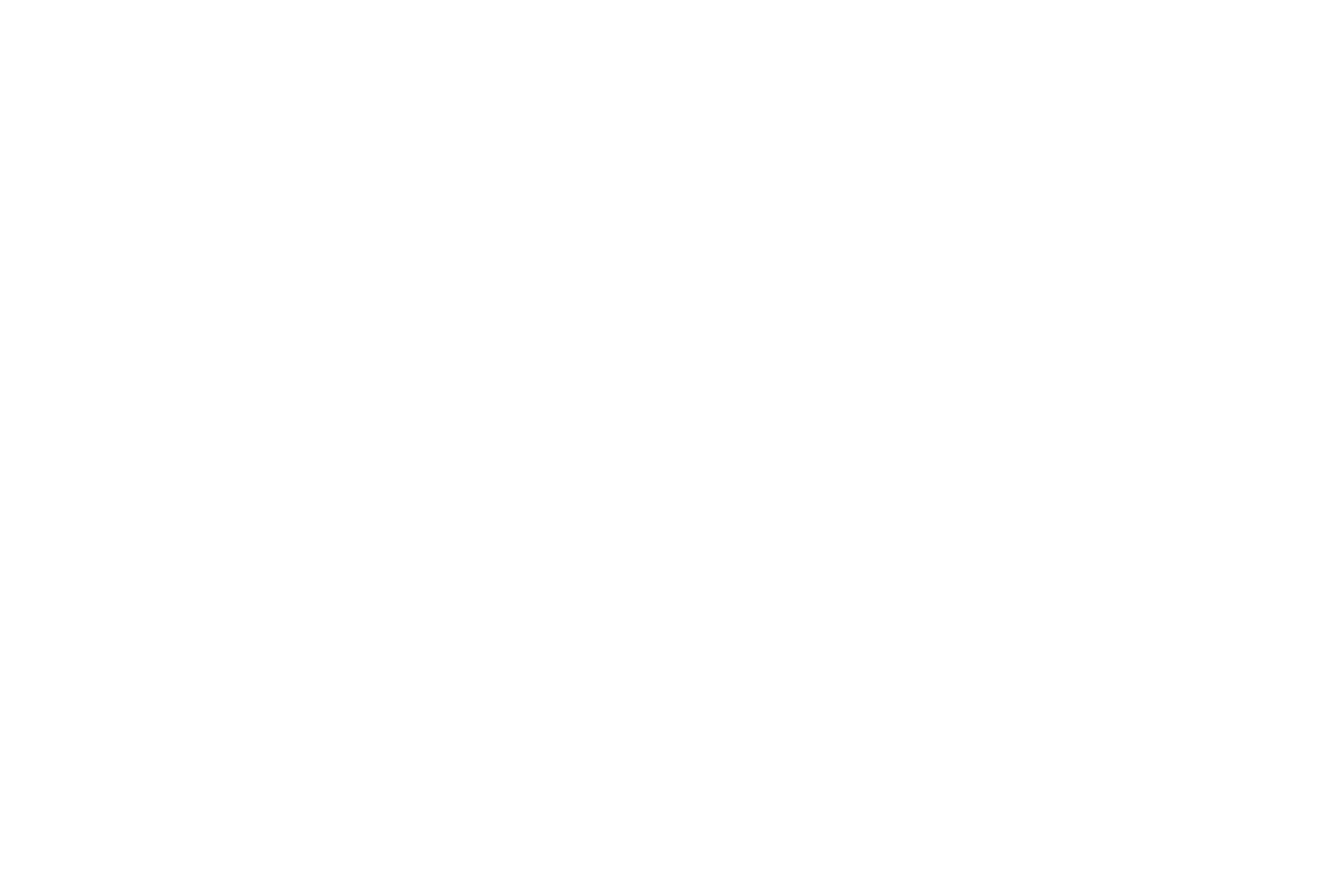
В этом смысле художественный рынок продолжает быть очень традиционным, но в интернете художник получает новую роль, и поэтому я бы хотел сейчас сконцентрироваться на этой роли. В интернете художники производят контент и определяются как контент-провайдеры, то есть производители контента. Это загадочное слово «контент-провайдер», с которым я постоянно сталкиваюсь, собственно, и было импульсом для этого доклада, поскольку это довольно значительный сдвиг в истории искусства и в истории культуры вообще. Для традиционного искусства контентом были Иисус Христос, Богоматерь, христианские святые, а также боги древнегреческого пантеона и видные исторические фигуры, а контент-провайдерами были церковь и исторические нарративы.
«Художник был творцом формы, а не контент-провайдером»
Задачей художника было дать этому контенту форму и тем самым проиллюстрировать или, собственно говоря, организовать передачу этого контента. Художник был творцом формы, а не контент-провайдером.
Что это за контент, который в наше время художники продуцируют в интернете? Частично этот контент состоит из дигитальных изображений произведений искусства. Это, конечно, не очень интересные случаи, поскольку эти произведения искусства уже циркулируют или по меньшей мере могут циркулировать на художественном рынке. Здесь интернет функционирует как расширение художественного рынка. Более интересным является другой случай, а именно, когда художники используют возможности для производства и распространения искусства, которые специфичны для интернета. Мы обращаемся к интернету и социальным медиа, когда мы хотим выяснить, что происходит в мире, когда мы хотим стать современными, то есть когда мы хотим синхронизировать наше личное время с мировым временем.

«Пользователь интернета не только получает новости, но и посылает их. Таким образом, в качестве контент-провайдера художник есть, в сущности, производитель новостей»
С утра люди встают и смотрят, что вообще происходит в мире, и как бы соотносят свою личную жизнь этим. В этом смысле генеалогия интернета включает более ранние формы производства новостей: пресса, радио, телевидение. Но, конечно, в случае интернета эта синхронизация взаимна: пользователь интернета не только получает новости, но и посылает их. Таким образом, в качестве контент-провайдера художник есть, в сущности, производитель новостей.
Здесь художественное произведение перестает быть объектом, вещью, а становится событием, событием, о котором сообщается, и это сообщение, собственно говоря, — и есть этот контент. Это может быть перформанс, акция или продолжительная политическая интервенция, но продуцирование традиционного художественного произведения также может быть рассмотрено как событие, поскольку происходит в определенное время и в определенном месте. Традиционные произведения искусства представлялись как вечные, как обладающие трансисторическим присутствием, присутствием, которое гарантировалось практиками хранения и реставрации.
«Традиционное представление искусства базируется на представлении о неопределенном времени существования произведений искусства»
То есть традиционное представление искусства базируется на представлении о неопределенном времени существования произведений искусства. Они как бы не ограничены с самого начала во времени, и отсюда возникает идея презентации произведения искусства как самоповторяющегося.
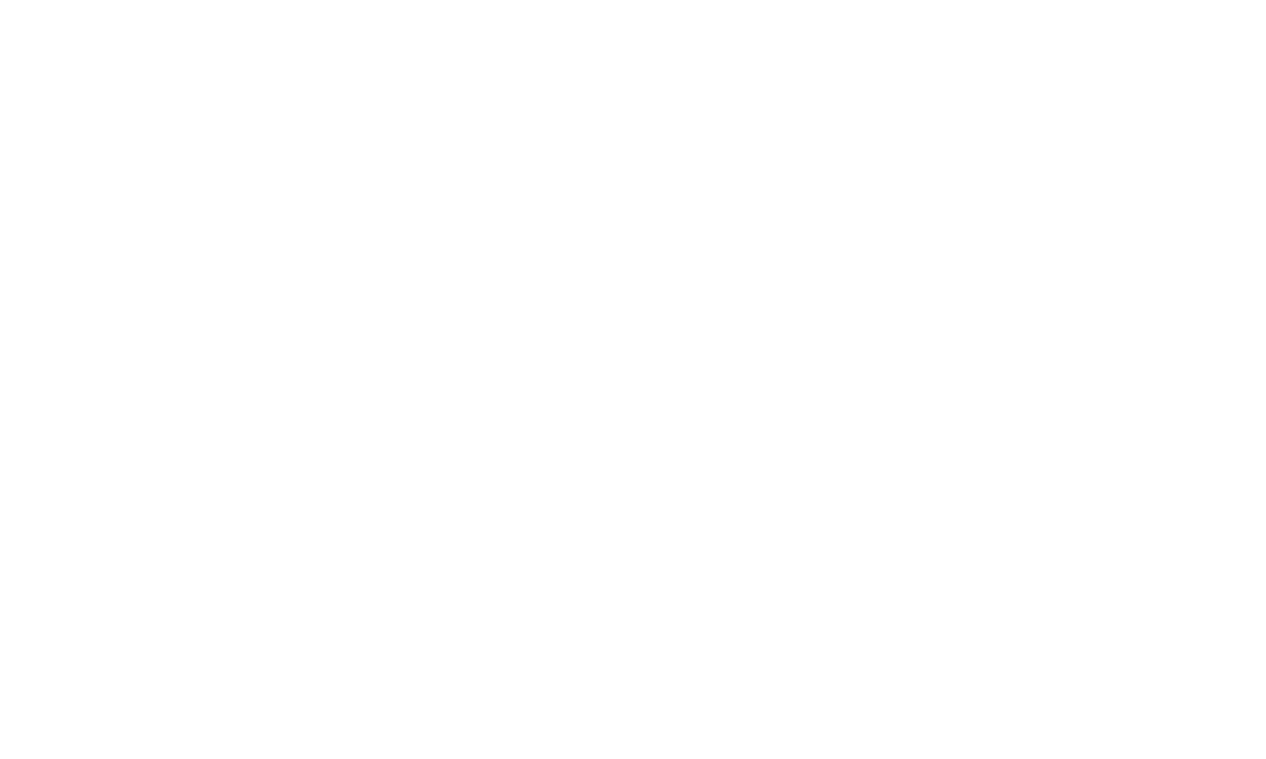
То есть если, например, я прихожу в музей и вижу там картину Сезанна, то предпосылкой созерцания этой картины является убеждение, что Сезанн, когда закончил свою работу, видел ее ровно такой же, то есть моя оптика, мое зрение совпадает со зрением художника, и объект, который я созерцаю, тоже совпадает с тем, который он созерцал.
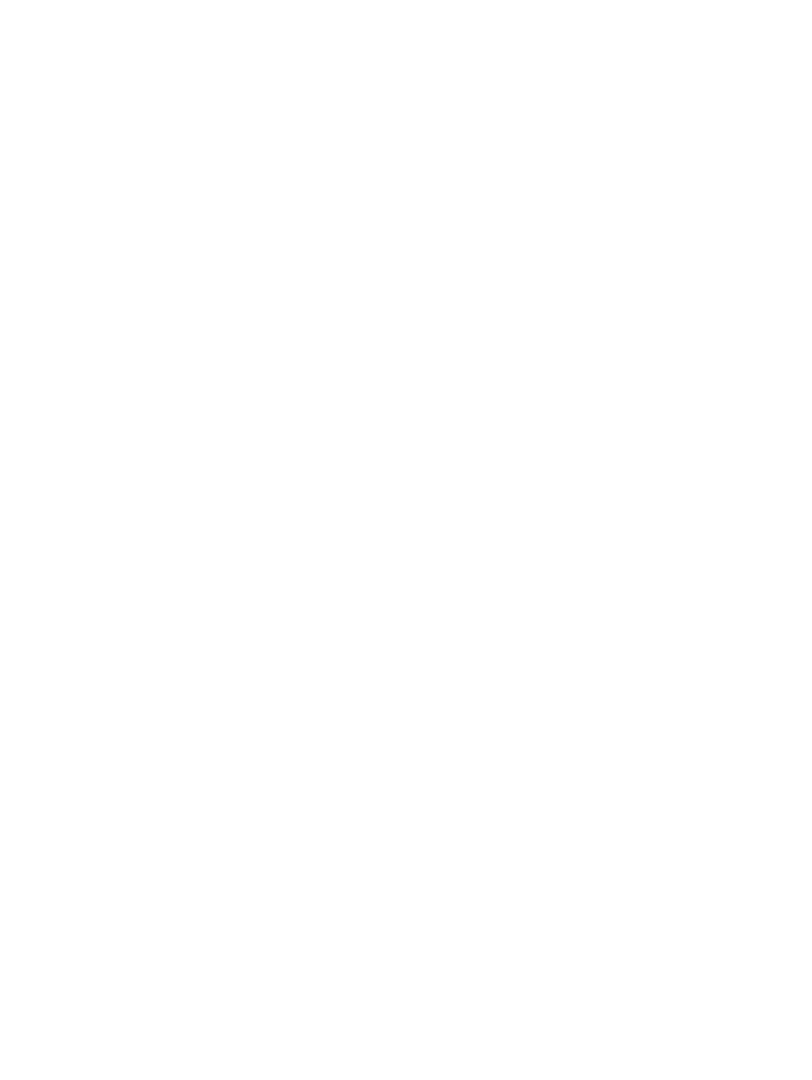
Вот это постоянное возвращение настоящего времени, постоянное возвращение акта презентации является, по существу, базой функционирования традиционного искусства.
Напротив, художественные события приходящие, их нельзя хранить и реставрировать, но только документировать и известным образом публиковать. Процесс замены арт-объекта искусства событиями искусства начался уже с художников и поэтов романтизма и интенсивировался в период исторического авангарда, в особенности, в контексте итальянского футуризма и раннего дада.
Наилучшим способом быть информированным об этих авангардных художественных событиях было прочесть о них в прессе и посмотреть на фотографии, иллюстрирующие соответствующую информацию. Роль прессы была решающей в этот период. Известно, что, собственно говоря, футуризм стартовал в 1909 году с газетной статьи, написанной Маринетти, и все остальное время он очень внимательно следил за тем, чтобы все акции футуристические отражались в основных газетах. И если посмотреть на практику русских футуристов и на практику, скажем, дада и на практику раннего сюрреализма, она отличается постоянной заботой о прессе.
Напротив, художественные события приходящие, их нельзя хранить и реставрировать, но только документировать и известным образом публиковать. Процесс замены арт-объекта искусства событиями искусства начался уже с художников и поэтов романтизма и интенсивировался в период исторического авангарда, в особенности, в контексте итальянского футуризма и раннего дада.
Наилучшим способом быть информированным об этих авангардных художественных событиях было прочесть о них в прессе и посмотреть на фотографии, иллюстрирующие соответствующую информацию. Роль прессы была решающей в этот период. Известно, что, собственно говоря, футуризм стартовал в 1909 году с газетной статьи, написанной Маринетти, и все остальное время он очень внимательно следил за тем, чтобы все акции футуристические отражались в основных газетах. И если посмотреть на практику русских футуристов и на практику, скажем, дада и на практику раннего сюрреализма, она отличается постоянной заботой о прессе.
«Интернет изменил эту ситуацию, поскольку дал возможность художникам самим документировать произведенные ими события, избегая тем самым цензуры и процесса отбора. Искусство становится идентичным журнализму»
Интернет изменил эту ситуацию, поскольку дал возможность художникам самим документировать произведенные ими события, избегая тем самым цензуры и процесса отбора. Искусство становится идентичным журнализму. Действительно, художники становятся свободными журналистами, описывающими свою собственную практику, но при этом они используют средства продуцирования и распространения информации, которые предписаны интернетом и его протоколами.
В этом смысле художники перестают быть создателями формы. Действительно, в интернете форма идентична для всех сообщений. Она предзадана, и поэтому содержание, контент становится иммунизированным от его поглощения формой. Искусство авангарда можно как раз описать как поглощение содержания формой, вплоть до абстрактного искусства, в котором содержание окончательно становится формой.
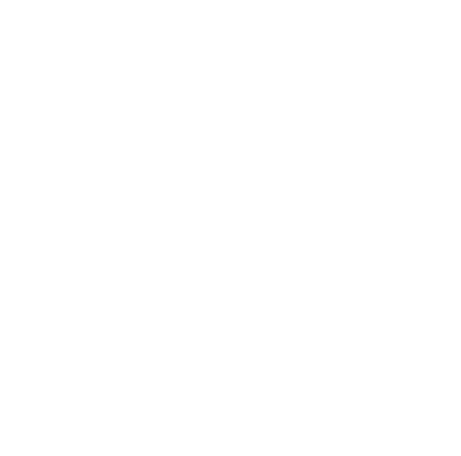
Здесь интернет восстанавливает на технологическом уровне условности реализации и презентации содержания, которые доминировали в XIX веке. Художники авангарда протестовали против этих условностей, поскольку они полагали их чисто произвольными и культурно детерминированными, но в контексте интернета такой протест против условностей не имеет смысла, потому что они составляют часть интернетной технологии.
Действительно, если мы посмотрим на функционирование современного искусства, которое проходит через интернет, то совершенно очевидно, что мы не имеем традиционной практики, начинающейся с чистого листа. С чего, собственно говоря, начался авангард? Он начался с белого листа, с пункта нуль или это был «Черный квадрат», но в любом случае это была манифестация полотна как такового, то есть плоскости как таковой, нулевого уровня произведения искусства.
Действительно, если мы посмотрим на функционирование современного искусства, которое проходит через интернет, то совершенно очевидно, что мы не имеем традиционной практики, начинающейся с чистого листа. С чего, собственно говоря, начался авангард? Он начался с белого листа, с пункта нуль или это был «Черный квадрат», но в любом случае это была манифестация полотна как такового, то есть плоскости как таковой, нулевого уровня произведения искусства.
Этого нулевого уровня достичь в интернете невозможно, поскольку любой художественный акт начинается слишком поздно. Он всегда запаздывает относительно форматирования и организации интернетного пространства и самого интернетного изображения, которое диктует определенные типы работы с собой. Таким образом, мы сталкиваемся с новой формой реализма.
Здесь, я знаю, была выставка, посвященная Лившицу, но если посмотреть сейчас на дискуссии, которые происходят на Западе, я смотрю даже по своим студентам, они все обращаются к реализму. Они все обращаются к проблеме документалистики и к проблеме информационного искусства, искусства, которое не только манифестирует форму, но передает информацию. Это, собственно, и есть принцип реализма, то есть практически происходит сейчас возвращение к такой домодернистской реалистической парадигме или отчасти, может быть, даже в большей степени, к реализму 1930-х годов.
Сейчас, если посмотреть на выставочную практику, то возвращение к реализму 1930-х годов совершенно очевидно везде. Художественный рынок и интернет имеют нечто общее. Они контролируются частными организациями, корпорациями, такие, как крупные галереи, «Сотбис», «Кристис», Гугл и Фейсбук. Их деятельность направлена на получение прибыли и подчиняется поэтому общим законам рынка.
Здесь, я знаю, была выставка, посвященная Лившицу, но если посмотреть сейчас на дискуссии, которые происходят на Западе, я смотрю даже по своим студентам, они все обращаются к реализму. Они все обращаются к проблеме документалистики и к проблеме информационного искусства, искусства, которое не только манифестирует форму, но передает информацию. Это, собственно, и есть принцип реализма, то есть практически происходит сейчас возвращение к такой домодернистской реалистической парадигме или отчасти, может быть, даже в большей степени, к реализму 1930-х годов.
Сейчас, если посмотреть на выставочную практику, то возвращение к реализму 1930-х годов совершенно очевидно везде. Художественный рынок и интернет имеют нечто общее. Они контролируются частными организациями, корпорациями, такие, как крупные галереи, «Сотбис», «Кристис», Гугл и Фейсбук. Их деятельность направлена на получение прибыли и подчиняется поэтому общим законам рынка.
«Сейчас, если посмотреть на выставочную практику, то возвращение к реализму 1930-х годов совершенно очевидно везде»
С художественным рынком все ясно, но общественный, открытый, демократический характер интернета является, разумеется, иллюзией. Интернет контролируется частными интересами и поэтому не может являться общественным пространством.
В то же время художественные музеи и крупные художественные выставки имеют свое происхождение не в рынке, а в традиции патронажа. Очень часто, когда говорят о деньгах, вообще искусство связано с деньгами, так вот, когда говорят о деньгах, то не учитывают того фактора, что деньги далеко не всегда идут от экономики и далеко не всегда идут от рынка. Они даже чаще всего идут все еще от патронажа и имеют на самом деле не экономическое, а политическое происхождение.
Мы знаем историю феодального и абсолютистского патронажа, а также историю республиканского патронажа после Французской революции, социалистического патронажа после социалистических революций и социал-демократического патронажа в Западной Европе после Второй мировой войны. Хотя политический патронаж в Европе идет на спад, но тем не менее он продолжает доминировать, особенно, конечно, в протестантских странах, таких, как Германия, но, впрочем, и в Австрии католической, и в скандинавских странах, и во Франции, на самом деле в большой степени также и в Англии, хотя это не так ясно, на первый взгляд, а уж в Италии — безусловно.
Мы знаем историю феодального и абсолютистского патронажа, а также историю республиканского патронажа после Французской революции, социалистического патронажа после социалистических революций и социал-демократического патронажа в Западной Европе после Второй мировой войны. Хотя политический патронаж в Европе идет на спад, но тем не менее он продолжает доминировать, особенно, конечно, в протестантских странах, таких, как Германия, но, впрочем, и в Австрии католической, и в скандинавских странах, и во Франции, на самом деле в большой степени также и в Англии, хотя это не так ясно, на первый взгляд, а уж в Италии — безусловно.
«Интернет контролируется частными интересами и поэтому не может являться общественным пространством»
То есть все вот эти большие интернациональные организации и выставки, такие, как, например, «Документа» в Касселе или Венецианская биеннале, они все имеют свое экономическое происхождение из политических структур. И поэтому для того, чтобы их проанализировать и проанализировать их стратегию, бессмысленно обращаться к проблеме рынка. Надо обратиться к проблеме политического запроса, который лежит в основе их организации и финансирования. То есть искусство в той мере, в которой оно репрезентировано в музеях и на крупных выставках, продолжает быть прежде всего политическим и уже во вторую очередь экономическим фактором.
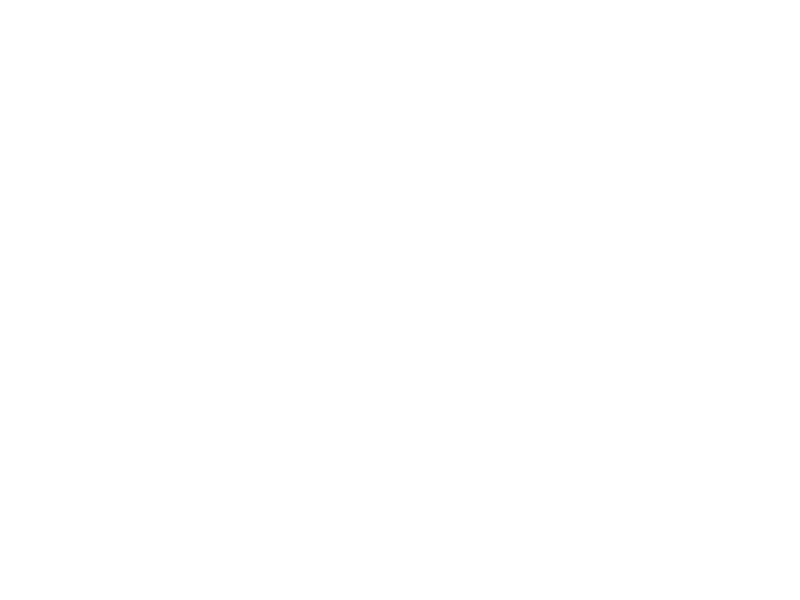
Но почему, собственно говоря, продолжается и развивается традиция выставок? То есть на самом деле очень многие думали, что когда будет интернет, то исчезнет вообще выставочная деятельность, исчезнут музеи и так далее и так далее, все заменится интернетом. И ничего этого не произошло. Вместо этого музейная система стала развиваться еще быстрее и художественная система, чем это было раньше. Буквально нет ни одного самого заброшенного места в мире, которое не организовало бы какую-нибудь биеннале или триеннале. Почему это происходит?
Действительно, такого места просто нет. Время от времени даже какие-то посланцы приезжают в Нью-Йорк, ко мне тоже приходили. Девушки и молодые люди из каких-то буквально деревень европейских, азиатских, говорят: «Мы хотим биеннале сделать, но не знаем, как. Сейчас приехали в Нью-Йорк, собираем мнения». Но вот ощущение, что биеннале надо сделать, даже если ты не знаешь, что это такое, оно присутствует. И отсюда возникает вопрос, почему оно присутствует, то есть что есть вот эта потребность в этой биеннале, что она собой являет.
Действительно, такого места просто нет. Время от времени даже какие-то посланцы приезжают в Нью-Йорк, ко мне тоже приходили. Девушки и молодые люди из каких-то буквально деревень европейских, азиатских, говорят: «Мы хотим биеннале сделать, но не знаем, как. Сейчас приехали в Нью-Йорк, собираем мнения». Но вот ощущение, что биеннале надо сделать, даже если ты не знаешь, что это такое, оно присутствует. И отсюда возникает вопрос, почему оно присутствует, то есть что есть вот эта потребность в этой биеннале, что она собой являет.
«Интернет — это исключительно инерцистичное медиа. Это зеркало наших индивидуальных интересов и желаний, а именно: интернет реагирует на вопросы пользователя, на его клик»
Что в интернете принципиально дефицитного? То есть почему интернет в качестве репрезентации универсального в локальном пространстве на самом деле не сработал? Дело в том, что интернет — это исключительно инерцистичное медиа. Это зеркало наших индивидуальных интересов и желаний, а именно: интернет реагирует на вопросы пользователя, на его клик.
Иначе говоря, в контексте интернета мы находим только то, о чем мы знаем заранее. Основное свойство интернета в том, что он структурно не может сообщить нам ничего нового, потому что он структурно организован так, что он отвечает только на вопросы, а мы не можем иначе задать вопрос, как уже не зная все то, о чем мы спрашиваем. Это как бы есть полностью тавтологичная, инерцистичная операция. Интернет исключает встречу с другим или новым. Для того, чтобы понять, что здесь происходит, я приведу вам такой пример.
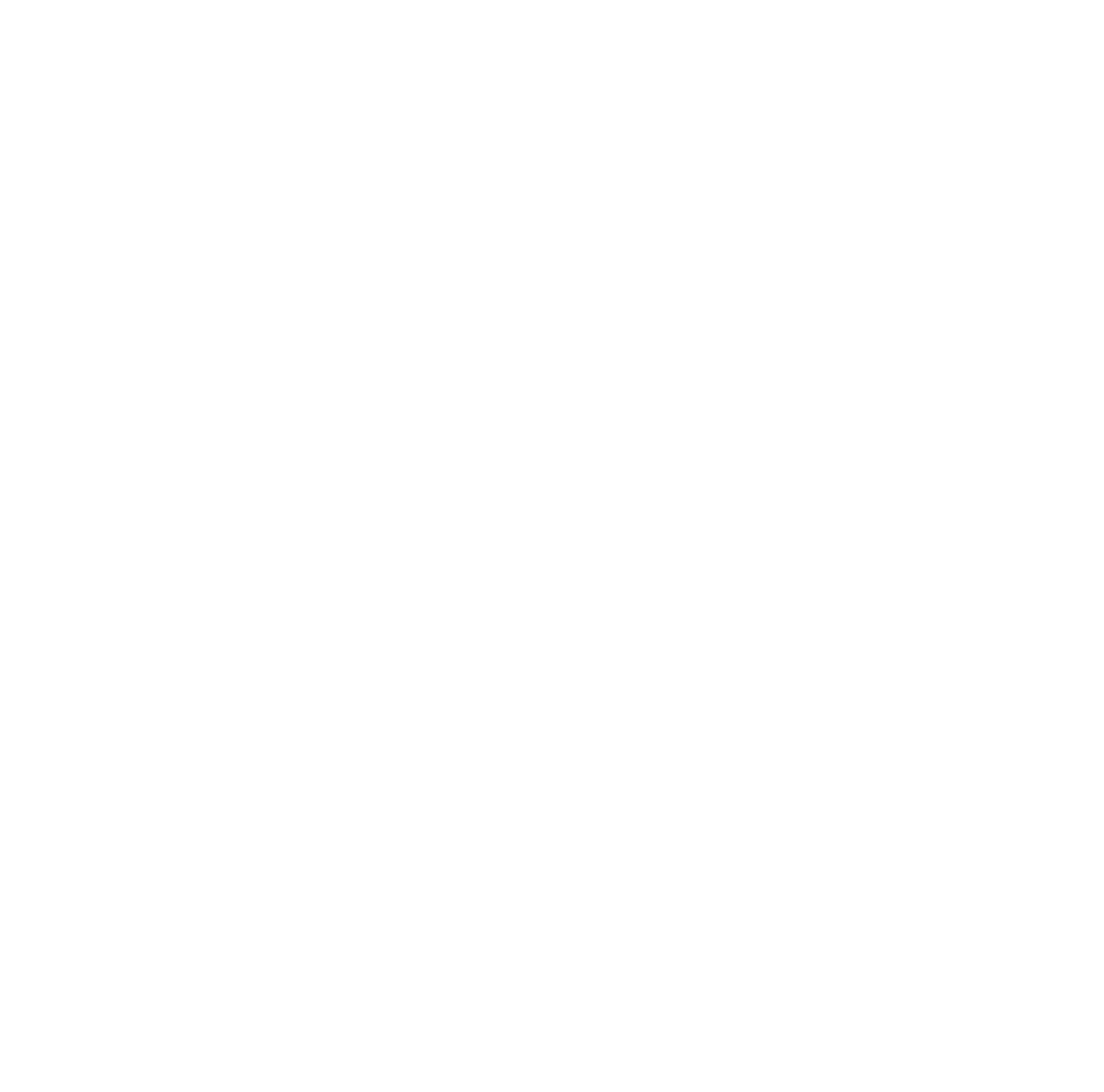
Вы знаете, что, в основном, сейчас доминируют крупные магазины или фирмы по продаже книг, но еще сохранились, в Германии, например, в Нью-Йорке они почти все исчезли, но в Германии еще сохранились такие старые книжные магазины с очень индивидуальным отбором книг. Может быть, два или три таких есть, например, в Кельне, где мы живем. И если вы идете в эти магазины, вы действительно можете найти книги, которые очень интересны, которые для вас новы, необычных авторов, которые вы обычно не встречаете в мейнстриме, которые не освещаются мейнстримной публикацией. Это что-то типа фаланстера здесь. Но, может быть, с более таким интернациональным выбором.
Почему эти магазины гибнут? Они гибнут по следующей причине. Люди, которые туда приходят, находят себе новую книгу, о которой раньше не слышали. Они просматривают книги. Какая-то книга им нравится. Они хотят ее купить. Когда у них возникает желание ее купить, они делают следующее. Они вынимают свой айфон, фотографируют эту книгу и заказывают ее в «Амазоне». В результате эта книжная лавка не получает никакой прибыли.
Хорошо, это, конечно, объясняет механизм, почему они разоряются, но это также объясняет и механизм функционирования интернета и его, как я уже объяснил, тавтологичную, инерцистичную природу. То есть ты сначала должен выяснить, что это, потом это заказать или спросить об этом, но сам акт этого выяснения должен происходить в пространстве офлайн. Почему это происходит?
Почему эти магазины гибнут? Они гибнут по следующей причине. Люди, которые туда приходят, находят себе новую книгу, о которой раньше не слышали. Они просматривают книги. Какая-то книга им нравится. Они хотят ее купить. Когда у них возникает желание ее купить, они делают следующее. Они вынимают свой айфон, фотографируют эту книгу и заказывают ее в «Амазоне». В результате эта книжная лавка не получает никакой прибыли.
Хорошо, это, конечно, объясняет механизм, почему они разоряются, но это также объясняет и механизм функционирования интернета и его, как я уже объяснил, тавтологичную, инерцистичную природу. То есть ты сначала должен выяснить, что это, потом это заказать или спросить об этом, но сам акт этого выяснения должен происходить в пространстве офлайн. Почему это происходит?
Это происходит вследствие того, что эти книги селектированы. И вот проблема селекции — это как раз то, чем я бы хотел заняться. Сначала еще два слова об интернете. В большинстве случаев люди в интернете общаются только с себе подобными, с людьми, которые тоже имеют те же взгляды, что и они, и те же вкусы, поэтому интернет абсолютно фрагментирован. Причем интересно, что эта фрагментация не является случайной, а является запрограммированной.
Была такая дама, какая-то специалистка по программированию, которая провела такой research и напечатала его в New York Times. Это был довольно, кстати, любопытный текст, пару месяцев тому назад. Она вдруг поняла, что в кругу людей, с которыми она общалась в Фейсбуке, двое голосовали за Трампа, и вдруг эти люди исчезли. Она говорит: «Что произошло?» Она стала выяснять. Выяснила, что Фейсбук оперирует алгоритмами, которые убирают людей, которые голосуют из Трампа, из сайтов, где большинство не голосуют из Трампа, и людей, которые голосовали против Трампа, из сайтов, где большинство людей голосует за Трампа. Тогда стали выяснять, зачем они это делают.
Они сказали, что это они делают потому, что когда люди придерживаются одних и тех же взглядов, и особенно политических, и особенно в острой ситуации, которая происходит в Америке, где сейчас тотальный раскол и очень сильная вражда между этими двумя группами, то они не достаточно хорошо, если этот раскол происходит на сайте, реагируют на рекламу. Все деньги-то они получают с рекламы. Поэтому они значительно лучше реагируют на рекламу, если все люди придерживаются на этом сайте одних и тех же политических взглядов. Поэтому не только оттуда уходят люди сами собой, но их просто сознательно убирают для создания такой вот благостной атмосферы, которая, естественно, экономически эффективна.
Была такая дама, какая-то специалистка по программированию, которая провела такой research и напечатала его в New York Times. Это был довольно, кстати, любопытный текст, пару месяцев тому назад. Она вдруг поняла, что в кругу людей, с которыми она общалась в Фейсбуке, двое голосовали за Трампа, и вдруг эти люди исчезли. Она говорит: «Что произошло?» Она стала выяснять. Выяснила, что Фейсбук оперирует алгоритмами, которые убирают людей, которые голосуют из Трампа, из сайтов, где большинство не голосуют из Трампа, и людей, которые голосовали против Трампа, из сайтов, где большинство людей голосует за Трампа. Тогда стали выяснять, зачем они это делают.
Они сказали, что это они делают потому, что когда люди придерживаются одних и тех же взглядов, и особенно политических, и особенно в острой ситуации, которая происходит в Америке, где сейчас тотальный раскол и очень сильная вражда между этими двумя группами, то они не достаточно хорошо, если этот раскол происходит на сайте, реагируют на рекламу. Все деньги-то они получают с рекламы. Поэтому они значительно лучше реагируют на рекламу, если все люди придерживаются на этом сайте одних и тех же политических взглядов. Поэтому не только оттуда уходят люди сами собой, но их просто сознательно убирают для создания такой вот благостной атмосферы, которая, естественно, экономически эффективна.
«Интернет характеризуется, с одной стороны, крайней тавтологичностью, инерцистичностью, а с другой стороны, крайней фрагментированностью социального пространства, и именно это компенсируется выставкой»
Таким образом, интернет характеризуется, с одной стороны, крайней тавтологичностью, инерцистичностью, а с другой стороны, крайней фрагментированностью социального пространства, и именно это компенсируется выставкой. Почему это компенсируется выставкой? Потому что она селектирована, и селекция обычно понимается неправильно. Селекция понимается как узкий выбор среди множества возможностей. Это совершенно неправильно.
Была такая теория. Я думаю, что она не очень хорошо известна, а может, и известна. Я не знаю, что переводили последнее время в России. Но Габриель Тард в свое время говорил о том, что все наше поведение — это имитация, и бывает имитация своей собственной группы, к которой ты принадлежишь, а бывает имитация людей со стороны, которые не входят в эту группу. И вот имитация людей, которые не входят в эту группу, — это и есть инновация. Собственно говоря, инновация — это и есть имитация, но имитация за пределами группы. Идея, не так уж сильно отличающаяся от идеи русского формализма или концепции остранения. Так или иначе, но именно принцип селекции, музейной и художественной в целом, — это не есть принцип сужения пространства. Почему они как бы сужают пространство?
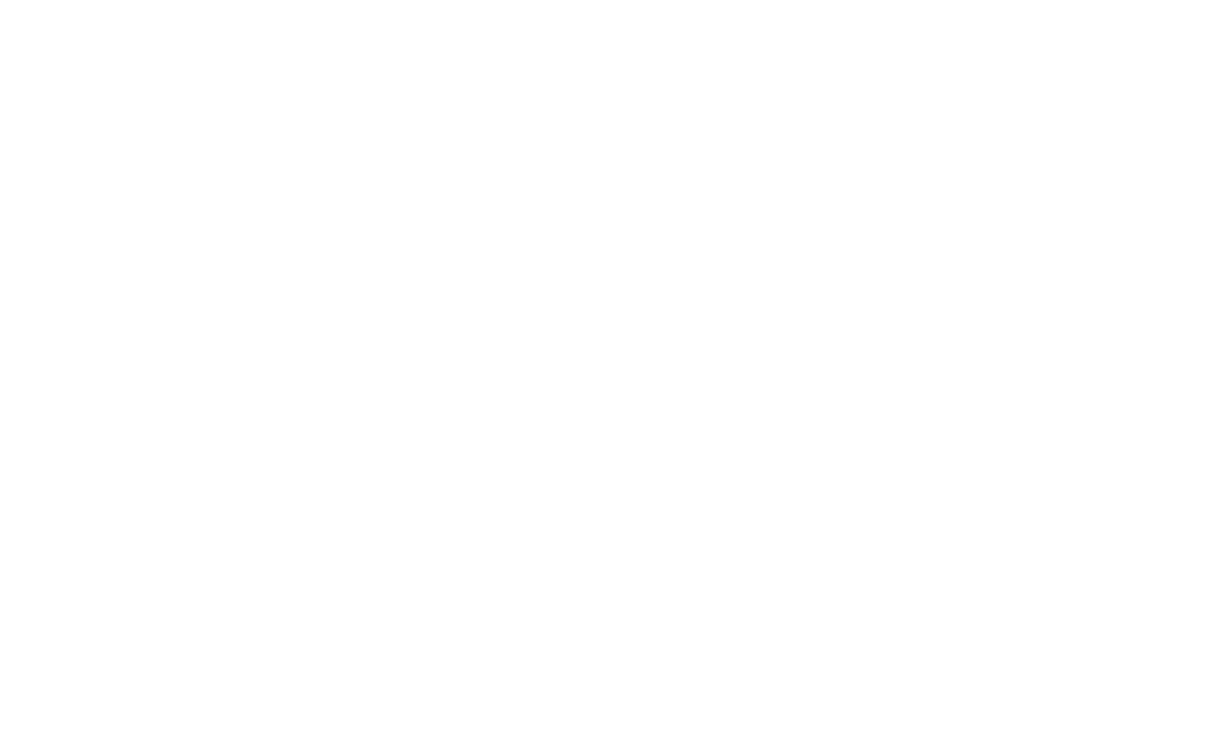
Нет сужения, а крайне расширение пространства, потому что кураторы, когда создают свои выставки, еще начиная с первых выставок, с Лувра, Британского музея и так далее, они помещают там памятники культуры, о которых обычные люди в той среде, которая ходила в музеи, просто не подозревали.
Вы идете в какие-нибудь эти музеи, вы видите примеры из искусства инков, какие-то мумии, каких-то китайцев, японцев и Вавилон. Все эти люди никогда бы вместе не встречались. Если бы какие-то жрецы инков встретились с этими мумиями, возник бы сильный конфликт, но они все собраны. Речь идет о селекции, трансцендирующей эту фрагментарность и трансцендирующей локальность. Селекция всегда шире и потенциально глобальнее и потенциально универсальнее, чем ее отсутствие. На самом деле в основе любой селекции лежит крайнее расширение диапазона тех объектов, которые вы можете посмотреть. Это вызывает, кстати, раздражение у людей.
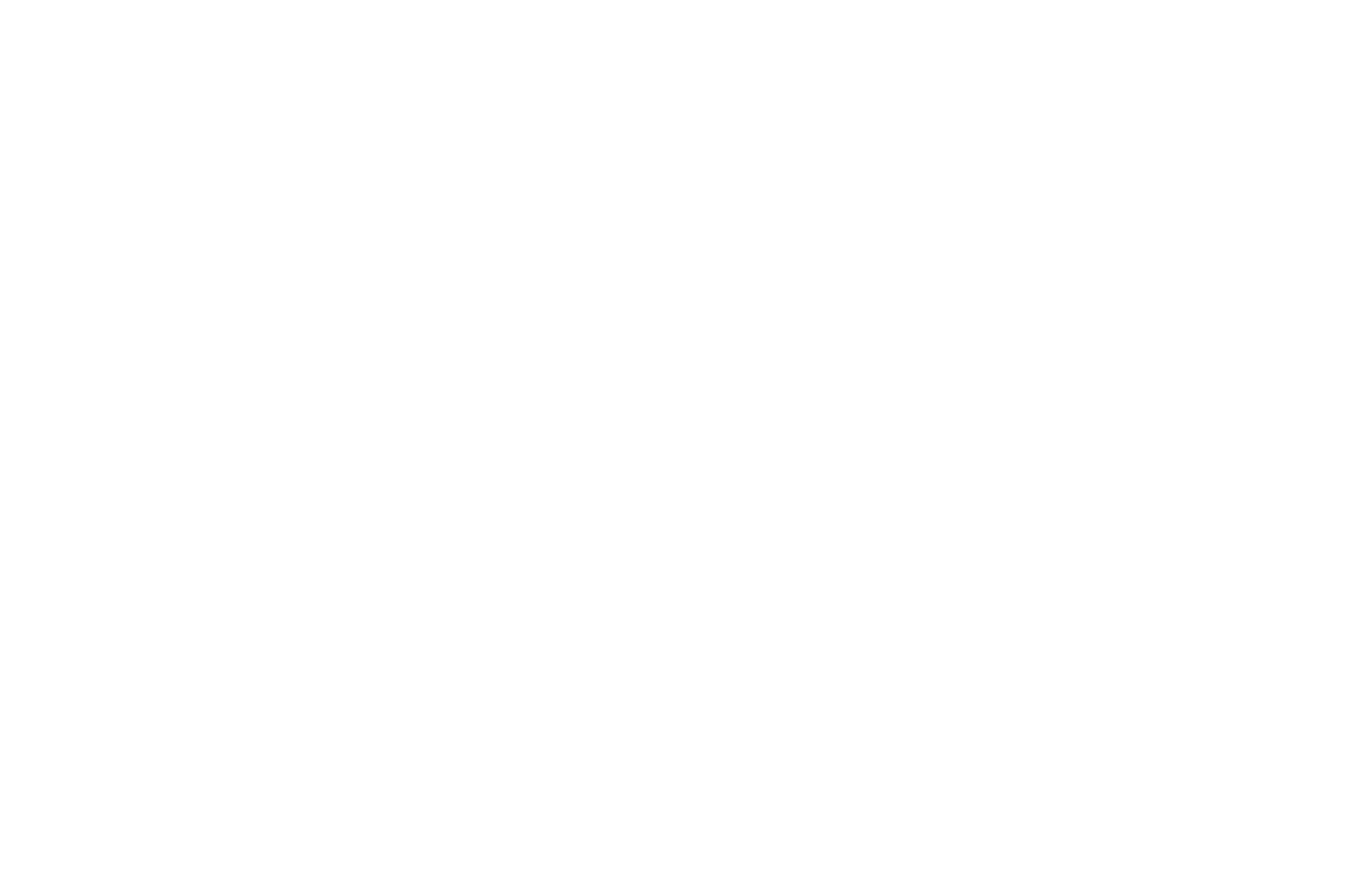
Последнее время в некоторых краях стал очень моден Рансьер, эмансипация зрителя, и я недавно выступал в Лиссабоне, где там все заражены его идеями, и мне все хором сказали, что нужно сочетать интернет и музей следующим образом. Нужно сначала выставить в интернет все объекты, которые могут португальские музеи выставить, затем объявить статистику, какие работы хотят видеть посетители в музеях, и потом эти музеи выставить. Тогда это будет демократическое, эмансипированное действие зрителя.
«Основная функция искусства была всегда и продолжает быть — это показывать людям то, на что они не хотят смотреть, и то, чего они не хотят видеть»
Проблема заключается в том, что музей в этом случае превращается в супермаркет, а зритель превращается просто в консумента, он превращается в потребителя, и потребительский заказ оказывается доминирующим. Я сразу же им сказал, что основная функция искусства была всегда и продолжает быть — это показывать людям то, на что они не хотят смотреть, и то, чего они не хотят видеть.
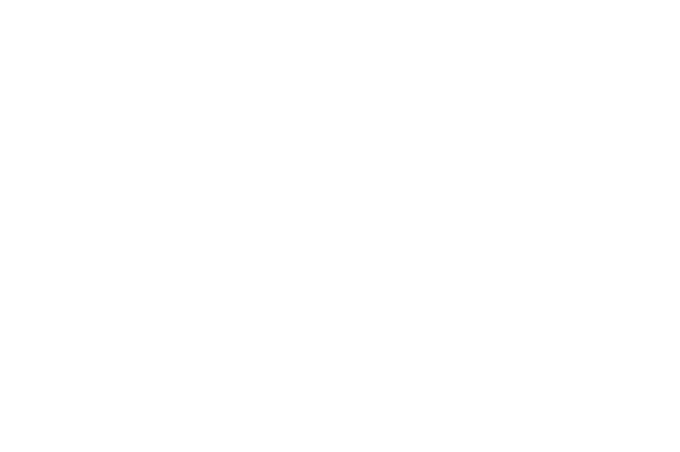
Показывать людям то, что они хотят видеть, — это абсолютная глупость, потому что они и так это видели. Они хотят это видеть — и пусть себе и видят дальше. Искусство только тогда имеет смысл, когда оно навязывает людям другую точку зрения, когда оно конфронтирует их с вещами, которые вызывают у них ужас и отвращение или которые они даже раньше не знали, которые их шокируют, которые их беспокоят, которые их раздражают. Если искусство это не делает, тогда его можно вообще отменить и заменить просто все музеи супермаркетами, к чему, в общем, многие сейчас в какой-то степени стремятся.
Таким образом, в основе селективности художественной должна быть трансгрессивная селективность, то есть пространство визуального опыта должно быть расширено, преодолено, и, кроме того, оно должно быть клетичное и протестное, протестное против определенного рода мейнстрима. Такую стратегию часто обвиняют в элитарности. Но что такое элитарность?
Дело в том, что я не знаю, как здесь, но в наших палестинах в элитарности обычно обвиняют людей, которые поддерживают права мигрантов. Они говорят, что те, кто поддерживает права мигрантов, они придерживаются элитарной точки зрения и не любят собственное население. Мигранты вовсе не элитарные, положение их не очень хорошее. Это такого же типа элитарность, как элитарность музейной экспозиции.
Таким образом, в основе селективности художественной должна быть трансгрессивная селективность, то есть пространство визуального опыта должно быть расширено, преодолено, и, кроме того, оно должно быть клетичное и протестное, протестное против определенного рода мейнстрима. Такую стратегию часто обвиняют в элитарности. Но что такое элитарность?
Дело в том, что я не знаю, как здесь, но в наших палестинах в элитарности обычно обвиняют людей, которые поддерживают права мигрантов. Они говорят, что те, кто поддерживает права мигрантов, они придерживаются элитарной точки зрения и не любят собственное население. Мигранты вовсе не элитарные, положение их не очень хорошее. Это такого же типа элитарность, как элитарность музейной экспозиции.
«То есть куратор, философ, который апеллирует к идеи универсальности и который выходит за пределы локального демократического консенсуса, должен быть по меньшей мере репрезентирован и иметь права на то, чтобы выжить, скажем так»
Я так всегда вспоминаю, что Наполеон, когда хотел написать свою Конституцию, он спросил тогдашних своих советников: «Что бы вы мне посоветовали?», и они ему сказали: «Мы бы посоветовали такую Конституцию, при которой Сократа нельзя было бы присудить к смерти». Он говорит: «Хорошая идея».
То есть куратор, философ, который апеллирует к идеи универсальности и который выходит за пределы локального демократического консенсуса, должен быть по меньшей мере репрезентирован и иметь права на то, чтобы выжить, скажем так.
То есть куратор, философ, который апеллирует к идеи универсальности и который выходит за пределы локального демократического консенсуса, должен быть по меньшей мере репрезентирован и иметь права на то, чтобы выжить, скажем так.
Возникает несколько вопросов. Один из них часто обсуждается. Это вопрос, до какой степени те объекты, которые вынуты из локальной среды и поставлены в среду выставочную и музейную, в какой степени они, если угодно, аутентичны.
Это в свое время обсуждалось подробно Беньямином. Известна его «потеря ауры», которая происходит от копирования, но не надо забывать, что он писал также, что выставить что-то означает то же самое, что скопировать это.
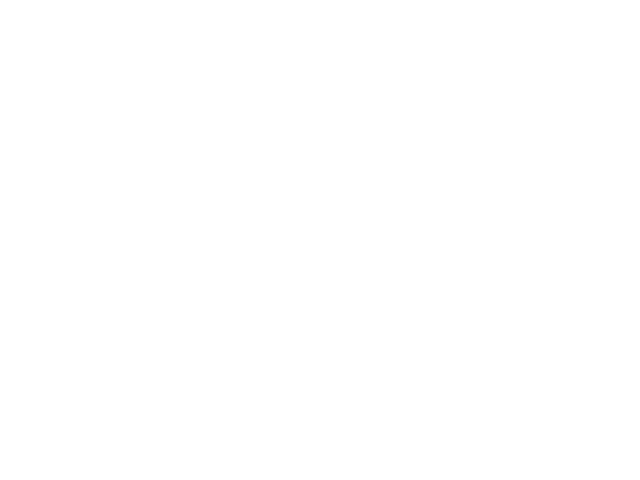
Между операцией «выставить что-то» и операцией «скопировать что-то», в сущности, нет никакой разницы, потому что обе эти операции вынимают объект его из локального контекста и таким образом фальсифицируют его.
То же самое пишет Хайдеггер, между прочим. В своей знаменитой работе «О происхождении произведений искусства» он пишет о том, что вынести из локального контекста какой-то объект и уместить его в искусственный контекст — это то же самое, что полностью его разрушить и полностью его сфальсифицировать. Беньямин умер, еще до Второй мировой войны, но что касается Хайдеггера, то он интересным образом поменял свою точку зрения, точнее, она проэволюционировала после войны.
То же самое пишет Хайдеггер, между прочим. В своей знаменитой работе «О происхождении произведений искусства» он пишет о том, что вынести из локального контекста какой-то объект и уместить его в искусственный контекст — это то же самое, что полностью его разрушить и полностью его сфальсифицировать. Беньямин умер, еще до Второй мировой войны, но что касается Хайдеггера, то он интересным образом поменял свою точку зрения, точнее, она проэволюционировала после войны.
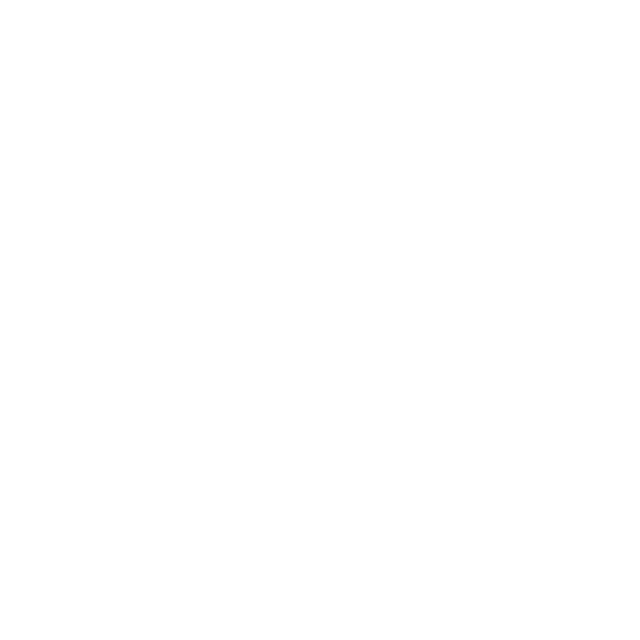
«Мы не можем идентифицировать что-то как локальное, если мы не посмотрим на это с глобальной перспективы»
И я недавно как раз выступал на эту тему, цитировал эту работу и эту фигуру при обсуждении выставки, которая сейчас сделана в Fondazione Prada. Как раз приехали из Милана. Fondazione Prada — это как бы история выставок, сделанных в фашистской Италии с 1918 до 1945 года. То есть каждый зал представляет одну выставку, сделанную в какой-то один год. И Челант, который сделал эту выставку, хотел обсудить эту проблему. Дело в том, что чем далее, тем более Хайдеггер понял то, что ясно с самого начала, и то, что я сказал вначале, что сам эффект локальности является следствием глобального взгляда. Мы не можем идентифицировать что-то как локальное, если мы не посмотрим на это с глобальной перспективы. В связи с этим он ввел понятие «гештель». Это обычно на английский переводится как «фрейм» и «фрейминг», но я бы сказал, это, скорее, аппарат, это то, что держит систему, аппарат.
И он говорил о том, что все, что мы видим, вообще отношение субъекта к миру, все, что мы видим, мы видим только потому, даже локально или глобально, мы видим только потому, что существует какая-то технология. Эта технология может быть очень рудиментарная или она может быть очень развитая, которая позволяет субъекту противопоставить себя объекту, то есть какая-то технология, которая обеспечивает внешнюю позицию по отношению к объекту. И дело заключается в том, что если мы находимся внутри этого аппарата, то мы склонны это забывать.
«Чтобы понять, как мы видим мир, нужно проанализировать ту технологию, которая дает нам возможность его увидеть»
Конечно, это старая идея Гуссерля. Когда его спрашивали, что такое, видеть мир, он говорил: «Это очень просто: снимите очки и посмотрите на них, тогда вы поймете, как вы видите мир». То есть для того, чтобы понять, как мы видим мир, нужно проанализировать ту технологию, которая дает нам возможность его увидеть.
И если мы совершим вот такой акт перехода от простого созерцания к рефлексии организации пространства и организации времени, которая дает нам возможность вообще увидеть что-либо, то этот сдвиг и есть, собственно говоря, основная рефлексивная операция. Это то, что дает нам, если угодно, истину, дает нам истину взгляда и дает нам истину мира.
И если мы остановимся на этом пункте, то легко сделать следующий шаг. Те, кто читал мои тексты об инсталляции, я думаю, уже предвидят этот шаг. Дело заключается в том, что мы можем подходить к выставке, потому что речь идет о выставке сейчас, потому что выставка дает нам возможность это увидеть, то есть интернет дает возможность, но я сейчас говорю о выставке.
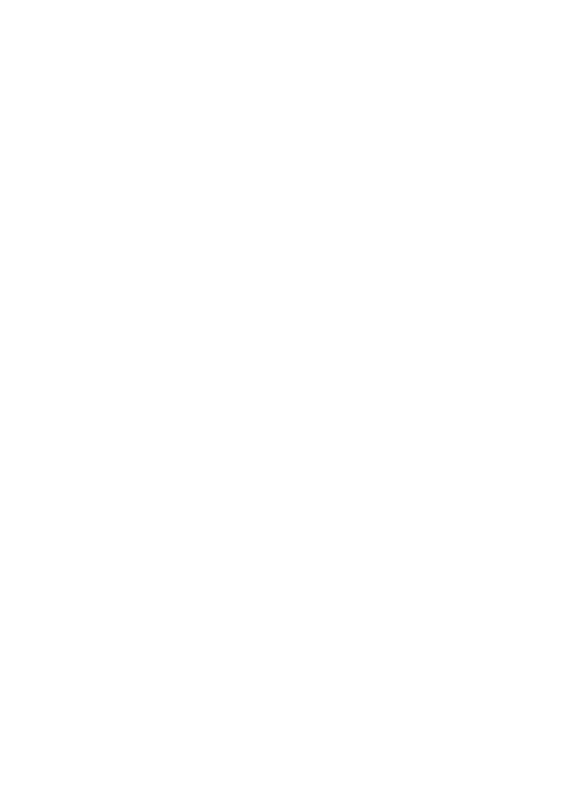
Кстати, в отношении к интернету, мы находимся во внешнем отношении к нему: мы сидим перед компьютером. Наша позиция в отношении интернета является сугубо традиционной. Между отношением к интернету, к экрану, отношением к традиционной картине, отношением к книге нет никакого различия. Речь идет о позиции наблюдателя в отношении того, что происходит перед глазами. Это фронтальная позиция, традиционная фронтальная позиция.
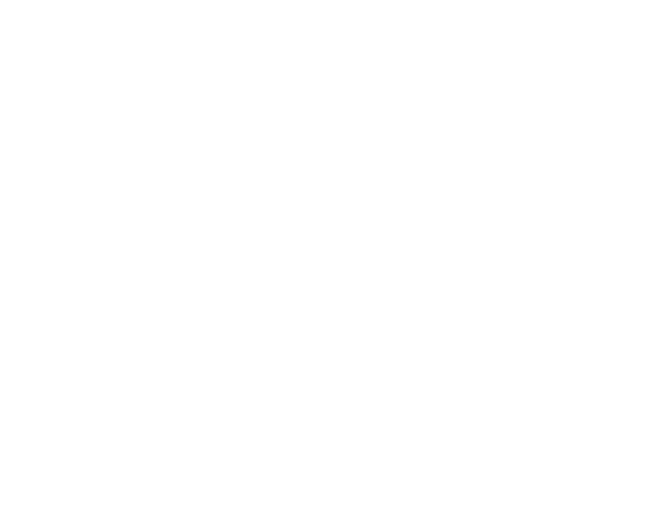
Что касается выставки, то мы все знаем, что эта традиционная фронтальная позиция все больше и больше подвергается критике и анализу. Если традиционные выставки были построены по принципу книги, то есть ты переходишь от картины к картине, как ты переходишь от страницы к странице, то современные выставки, современные инсталляционные проекты выявляют структуру самого пространства и время созерцания, диктуют вам время созерцания. Она диктует время созерцания включением видео, включением текста, распределением объектов в пространстве, индицирует места, где вы должны задержаться, индицирует места, где вы можете проходить мимо, и так далее и так далее.
И если мы совершим вот такой акт перехода от простого созерцания к рефлексии организации пространства и организации времени, которая дает нам возможность вообще увидеть что-либо, то этот сдвиг и есть, собственно говоря, основная рефлексивная операция. Это то, что дает нам, если угодно, истину, дает нам истину взгляда и дает нам истину мира.
И если мы остановимся на этом пункте, то легко сделать следующий шаг. Те, кто читал мои тексты об инсталляции, я думаю, уже предвидят этот шаг. Дело заключается в том, что мы можем подходить к выставке, потому что речь идет о выставке сейчас, потому что выставка дает нам возможность это увидеть, то есть интернет дает возможность, но я сейчас говорю о выставке.
И если мы остановимся на этом пункте, то легко сделать следующий шаг. Те, кто читал мои тексты об инсталляции, я думаю, уже предвидят этот шаг. Дело заключается в том, что мы можем подходить к выставке, потому что речь идет о выставке сейчас, потому что выставка дает нам возможность это увидеть, то есть интернет дает возможность, но я сейчас говорю о выставке.
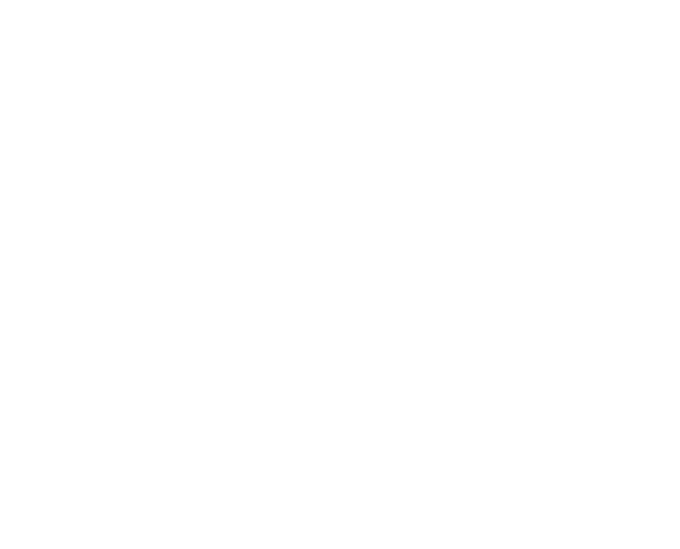
Традиционные исходят из автономии каждого отдельного произведения искусства. Современные проекты интегрируют эти произведения искусства в единое пространство и таким образом переводят ваше внимание со взгляда на анализ его функционирования. Это критический рефлексивный ход. Он характерен для всех современных выставок, и это как раз то второе качество, которое отделяет выставку от, скажем, интернета и других аналогичных средств информации, поскольку эта выставочная технология показывает саму себя.
То есть когда вы идете на эту современную выставку, вы видите не только то, что выставлено, но саму по себе выставленность и механизмы этой выставленности. Таким образом, происходит уровень рефлексии, который обычно, в традиционных медиа, и в этом смысле интернет очень традиционный, места не имеет. Отсюда возникает два вопроса дополнительные, и я к ним сейчас перейду в оставшиеся мне 10 минут. Первый вопрос — это вопрос о том, в какой степени искусство, которое хочет быть информационным и которое в рамках интернета предстает в виде документации, в виде информации о каком-то художественном событии, в какой форме оно может быть показано в музее.
То есть когда вы идете на эту современную выставку, вы видите не только то, что выставлено, но саму по себе выставленность и механизмы этой выставленности. Таким образом, происходит уровень рефлексии, который обычно, в традиционных медиа, и в этом смысле интернет очень традиционный, места не имеет. Отсюда возникает два вопроса дополнительные, и я к ним сейчас перейду в оставшиеся мне 10 минут. Первый вопрос — это вопрос о том, в какой степени искусство, которое хочет быть информационным и которое в рамках интернета предстает в виде документации, в виде информации о каком-то художественном событии, в какой форме оно может быть показано в музее.
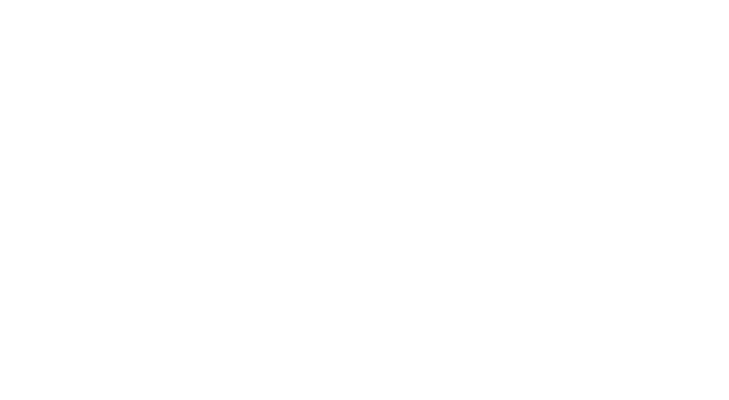
Я участвовал во многих каких-то мероприятиях, посвященных этой теме, и дискуссиях, и совершенно очевидно, что если мы не начинаем в своей деятельности сейчас с чистого листа или с чистого полотна, то все равно мы начинаем деятельность с белого куба, то есть в пространстве выставки уровень нуля сохраняется, что приводит к тому, что нет перформатированного выставочного пространства. Выставочное пространство продолжает быть неперформатированным.
Это означает, что куратор или художник, который выставляет свои работы, вынуждены придумать форму сами. Она как бы не предзадана, что приводит к различного типа практикам, инсталляционным практикам, и каждый придумывает свою собственную форму. Иногда эти формы бывают очень мучительные.
Особенно художники склонны к мучительным формам. Нужно стоять долго в очереди, стоять по одному, нужно просовывать голову в какие-то окошки неудобные, нужно проползать под какими-то туннелями и так далее, но это издевательство над зрителем. Я ему обычно не следую, потому что у меня просто не достаточно физической тренировки, но в принципе, если человек натренирован физически, то почему бы и нет. Это одна сторона.
Особенно художники склонны к мучительным формам. Нужно стоять долго в очереди, стоять по одному, нужно просовывать голову в какие-то окошки неудобные, нужно проползать под какими-то туннелями и так далее, но это издевательство над зрителем. Я ему обычно не следую, потому что у меня просто не достаточно физической тренировки, но в принципе, если человек натренирован физически, то почему бы и нет. Это одна сторона.
Сейчас вот этот вот механизм есть механизм производства прошлого, постоянного прошлого. Дело в том, что в основе любой документации лежит представление о том, что-то, что документировано, было в прошлом, и это является главным свойством современного искусства. Если задать себе вопрос, чем занимается современное искусство, современное искусство занимается производством прошлого. Оно занимается производством прошлого с невероятной скоростью.
Знаете, я не знаю, здесь это происходит или нет, но когда выступаешь с какими-то лекциями, то сейчас такой стриминг происходит, и у меня был как раз такой опыт, это опыт такой архивный. Я слышал запись последнего выступления Александра Кожева. Он умер во время этого выступления, и сохранилась та часть, которую он произнес, и потом момент, когда он умер, там вдох такой.
Знаете, я не знаю, здесь это происходит или нет, но когда выступаешь с какими-то лекциями, то сейчас такой стриминг происходит, и у меня был как раз такой опыт, это опыт такой архивный. Я слышал запись последнего выступления Александра Кожева. Он умер во время этого выступления, и сохранилась та часть, которую он произнес, и потом момент, когда он умер, там вдох такой.
«При современной системе регистрации речи речь превращается в прошлое в момент практически ее произнесения, то есть за долю секунды она превращается в абсолютное прошлое»
И вот я всегда, когда происходит этот стриминг, я думаю, что если я умру в следующий момент, а я всегда это думаю, то это же будет уже вечным прошлым. То есть при современной системе регистрации речи речь превращается в прошлое в момент практически ее произнесения, то есть за долю секунды она превращается в абсолютное прошлое.
Почему абсолютное? Потому что, когда вы гуглите прошлое, то Гугл не проводит разницы между Платоном и тем, что было сказано вчера на Винзаводе. Они все находятся на одном уровне. Это один временной уровень — это уровень прошлого. Это просто прошлое и больше ничего. То есть таким образом, мы живем в цивилизации, которая постоянно производит прошлое, и одновременно с этим постоянным производством прошлого она производит то, что можно назвать искусственной ностальгией. Собственно, чувство искусственной ностальгии и есть господствующее сейчас чувство.
В качестве анекдотического рассказа закончу следующим. У меня была одна знакомая, с которой я как-то ехал в трамвае в Питере. А знаете, в Питере трамваи — город старый по своей архитектуре — с XIX века у них одни и те же номера и одна и та же траектория движения в центре. Этой моей знакомой было лет 80, и она, когда мы проезжали какое-то место, вы сейчас поймете, какое, она сказала: «Ах, вы знаете, как-то ехала я на этом же трамвае, в этом же месте, смотрю — какой-то человек что-то говорит с балкона, и народ как-то собирается, реагирует.
В качестве анекдотического рассказа закончу следующим. У меня была одна знакомая, с которой я как-то ехал в трамвае в Питере. А знаете, в Питере трамваи — город старый по своей архитектуре — с XIX века у них одни и те же номера и одна и та же траектория движения в центре. Этой моей знакомой было лет 80, и она, когда мы проезжали какое-то место, вы сейчас поймете, какое, она сказала: «Ах, вы знаете, как-то ехала я на этом же трамвае, в этом же месте, смотрю — какой-то человек что-то говорит с балкона, и народ как-то собирается, реагирует.
«Это и есть действительно главная тема современной цивилизации: это «Почему я не там? Почему меня там не было? Почему я это все пропустил, почему все прошло мимо меня?»
Ты идешь в ММОМу, смотришь какую-то запись, какого-то перформанса, Марины Абрамович, и думаешь: «Ах, какая глупость, какая плохая запись! Как было бы прекрасно, если бы я был бы в это время». Вот это «как было бы прекрасно, если бы я жил в это время, как было бы прекрасно, если бы я был свидетелем, как было бы прекрасно, если бы это произошло со мной, но это никогда не произойдет со мной, потому что это в прошлом», вот это вот ощущение невозвратности, ирреверсибельности времени, как бы абсолютной потери, то, о чем говорил Деррида в своей «деконструкции» и так далее. Он очень рано это почувствовал.
Это и есть действительно главная тема современной цивилизации: это «Почему я не там? Почему меня там не было? Почему я это все пропустил, почему все прошло мимо меня?».
В качестве анекдотического рассказа закончу следующим. У меня была одна знакомая, с которой я как-то ехал в трамвае в Питере. А знаете, в Питере трамваи — город старый по своей архитектуре — с XIX века у них одни и те же номера и одна и та же траектория движения в центре.
Это и есть действительно главная тема современной цивилизации: это «Почему я не там? Почему меня там не было? Почему я это все пропустил, почему все прошло мимо меня?».
В качестве анекдотического рассказа закончу следующим. У меня была одна знакомая, с которой я как-то ехал в трамвае в Питере. А знаете, в Питере трамваи — город старый по своей архитектуре — с XIX века у них одни и те же номера и одна и та же траектория движения в центре.
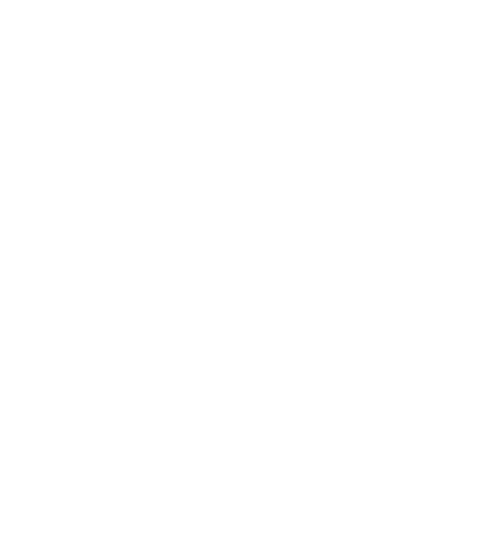
Этой моей знакомой было лет 80, и она, когда мы проезжали какое-то место, вы сейчас поймете, какое, она сказала: «Ах, вы знаете, как-то ехала я на этом же трамвае, в этом же месте, смотрю — какой-то человек что-то говорит с балкона, и народ как-то собирается, реагирует. Я думала выйти из трамвая, посмотреть, что он там говорит, чего, но как-то почувствовала, что времени нет, и поехала дальше, а вот теперь жалею, потому что Ленин провозглашал советскую власть», с Кшесинской дворца.
Вот это вот ощущение сожаления о том, что главное было упущено, — это вот есть то, что современное искусство, собственно говоря, нам и внушает. Спасибо.
Вот это вот ощущение сожаления о том, что главное было упущено, — это вот есть то, что современное искусство, собственно говоря, нам и внушает. Спасибо.
Вопросы, которые задавали Борису Грозу после доклада
— Борис. Есть ли будущее у современного искусства в ситуации, когда мы, художники, не можем предложить новой политической идеи?
— Дело в том, что художники никогда не предлагали никакой политической идеи. Они предлагали другие идеи, которые имели в том числе политическую составляющую. Например, если Малевич предлагал всем переселиться в планеты и улететь в космос, то это был не политический проект, но он имел политическую компоненту, совершенно очевидную, и т.д. и т.п. Или, если Мондриан хотел построить идеальную систему соотношений архитектуры и человека, или Баухаус, это тоже имело какую-то политическую компоненту.
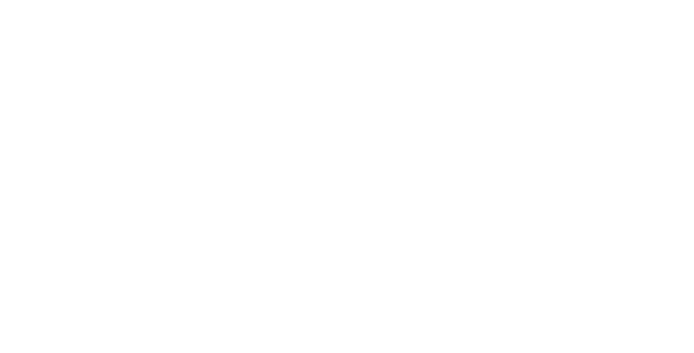
«Художественный проект сам по себе не является политическим. Он имеет политическое значение или политическую релевантность»
А почему бы и нет? Мы не можем заранее сказать, что не появится интересных художественных проектов. Было бы странно это сейчас сказать.
— Здравствуйте, Борис. Меня зовут Наталья. У меня такой вопрос. Что вы думаете про спекулятивное восприятие модели мира? То есть, например, Йоэль Регев утверждает, что прошлое можно изменить. То есть тут ключевой момент, что мы можем изменить прошлое, но для этого мы должны отказаться от такого линейного распределения времени и принять вот такую тотальность настоящего, будущего и прошлого в одной точке. Что вы думаете?
— Идея хорошая, мне кажется, да. В свое время Лев Шестов сказал, что главная идея, главная цель — это изменить прошлое. Ну, если получится, то да. Мне кажется, что любые предложения практического характера, а это же предложение практического характера, изменить прошлое, они все-таки проверяются практикой. Если под изменением прошлого имеется в виду изменение интерпретации или нашей модели, то это одно. Это изменить можно всегда: сегодня думаешь одно, завтра — другое. В том числе и о прошлом сегодня думаешь одно, а завтра — другое. Да и прошлое, история все время меняется, историческая оценка меняется.
Если же представить себе какую-то реальность, изменение реального прошлого, это да, это сайнс-фикшн. Но сайнс-фикшн — почему нет? Если это будет реализовано, замечательно будет. То есть я не знаю, будет ли замечательно, но интересно. Я думаю, что это вопрос прагматический.
Если же представить себе какую-то реальность, изменение реального прошлого, это да, это сайнс-фикшн. Но сайнс-фикшн — почему нет? Если это будет реализовано, замечательно будет. То есть я не знаю, будет ли замечательно, но интересно. Я думаю, что это вопрос прагматический.
— Борис, здравствуйте, вопрос следующий. Если мы говорим про селективность как один из элементов современной выставки, то тут возникает такой вопрос. Вы говорите, что куратор должен быть репрезентативен в каком-то смысле, чтобы выйти за рамки локального демократического консенсуса, то, говоря о том, что нельзя давать зрителю возможность выбирать, что выставлять, то тогда вопрос заключается в том, кто должен выбирать куратора? Почему он определяет, что это выставлять, а это не выставлять?
— Никто куратора не выбирает. Такой инстанции, конечно, нет. Это опять же тот же самый прагматический вопрос. Проблема в том, что если мы возьмем кураторскую традицию в целом, да и художественную традицию в целом, то художник всегда чувствовал, куратор всегда чувствовал свою ответственность перед историей. Когда нам что-то нравится или не нравится в художественном произведении, мы не чувствуем свою ответственность перед историей. Мы не задаем себе вопрос, что нового приносит это произведение в исторической перспективе. Мы можем сказать: «Нам это не нравится».
В свое время, между прочим, Малевич сказал, что главный враг искусства — это искренность художника. То есть, собственно говоря, даже самому художнику не должно нравиться то, что он делает. Он должен действовать соответственно логике исторического развития искусства. Это особый род ответственности.
Также особый род ответственности — это универсалистская и интернационалистическая ответственность, о которой я говорил, Вопрос о том, кто это делает удачно, а кто это делает неудачно, он, как говорится, решается жизнью. Нет никаких таких инстанций, и тем не менее есть ощущение, что какие-то кураторы более интересные, их работы более интересные, а какие-то менее интересные, их работы менее интересные. Это ощущение возникает у художественной системы, и это ощущение возникает и у их коллег, и в конечном счете, если кто-то делает интересные работы, то это люди замечают, и кто делает неинтересные работы, это люди тоже замечают.
В свое время, между прочим, Малевич сказал, что главный враг искусства — это искренность художника. То есть, собственно говоря, даже самому художнику не должно нравиться то, что он делает. Он должен действовать соответственно логике исторического развития искусства. Это особый род ответственности.
Также особый род ответственности — это универсалистская и интернационалистическая ответственность, о которой я говорил, Вопрос о том, кто это делает удачно, а кто это делает неудачно, он, как говорится, решается жизнью. Нет никаких таких инстанций, и тем не менее есть ощущение, что какие-то кураторы более интересные, их работы более интересные, а какие-то менее интересные, их работы менее интересные. Это ощущение возникает у художественной системы, и это ощущение возникает и у их коллег, и в конечном счете, если кто-то делает интересные работы, то это люди замечают, и кто делает неинтересные работы, это люди тоже замечают.
«Что такое социальные сети, что такое все эти веб-сайты и так далее? В действительности мы имеем ситуацию, в которой два с половиной миллиарда человек могут создать свою собственную выставку»
Это такой процесс, который, так же, как и процесс художественный, его нельзя на самом деле регулировать, и нет институций, которые могли бы их регулировать.
Кстати, это не должно вызывать никакой фрустрации ни у кого, потому что это практика, которой занимаются все в том же интернете. Что такое социальные сети, что такое все эти веб-сайты и так далее? В действительности мы имеем ситуацию, в которой два с половиной миллиарда человек могут создать свою собственную выставку. Они могут поместить свои тексты, они могут поместить свои видео, они могут поместить свои фотографии, они могут их прокомментировать, они могут установить связи между своим сайтом и другими сайтами.
Кстати, это не должно вызывать никакой фрустрации ни у кого, потому что это практика, которой занимаются все в том же интернете. Что такое социальные сети, что такое все эти веб-сайты и так далее? В действительности мы имеем ситуацию, в которой два с половиной миллиарда человек могут создать свою собственную выставку. Они могут поместить свои тексты, они могут поместить свои видео, они могут поместить свои фотографии, они могут их прокомментировать, они могут установить связи между своим сайтом и другими сайтами.
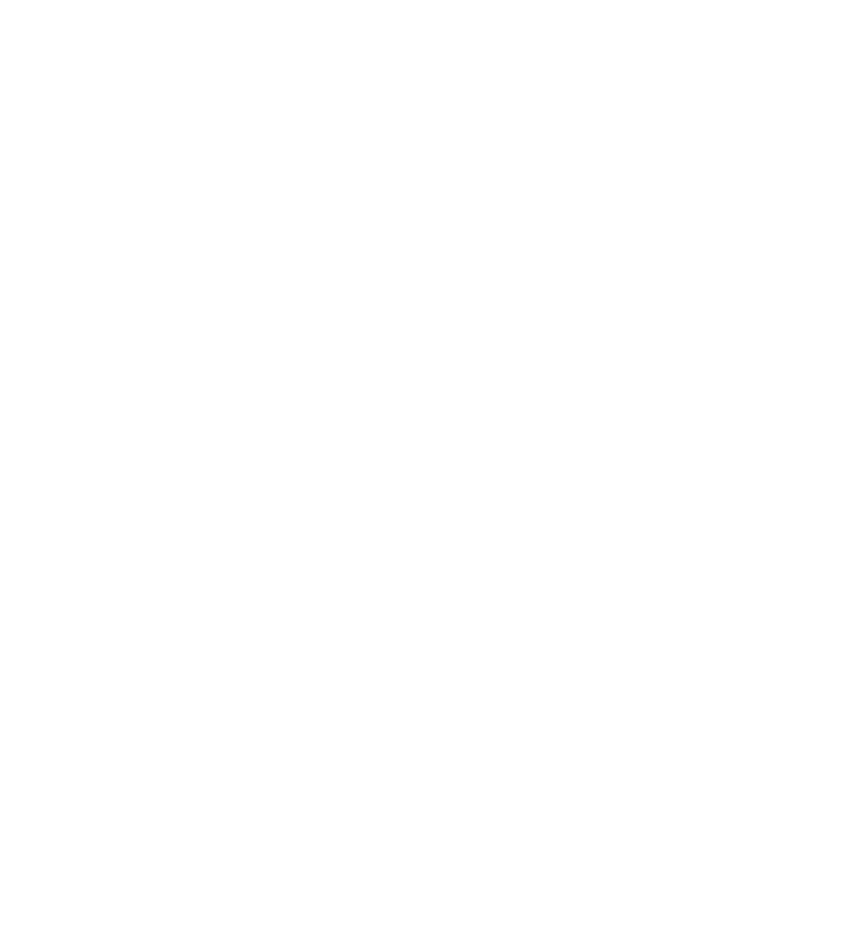
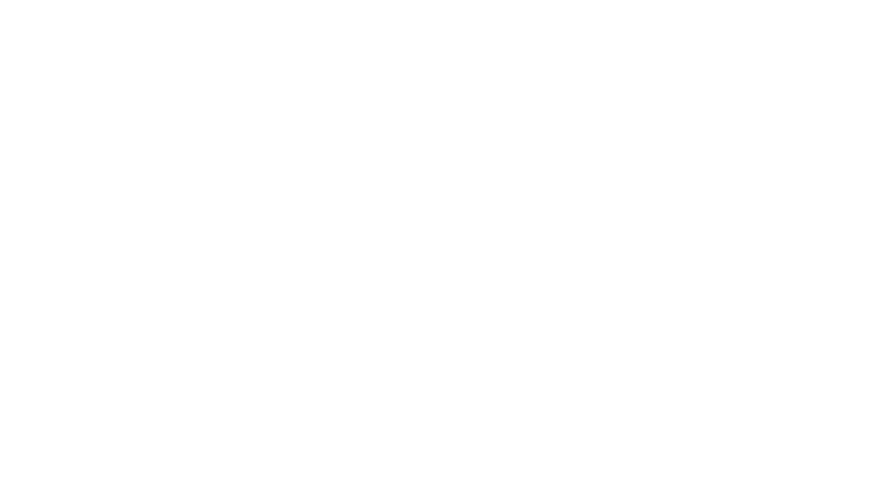
«Каждый такой сайт выглядит, как концептуальное, постконцептуальное произведение искусства и кураторская работа, потому что это выбор других сайтов, выбор людей, с которыми ты коммуницируешь, и так далее»
Это все является художественной работой, потому что каждый такой сайт выглядит, как концептуальное, постконцептуальное произведение искусства и кураторская работа, потому что это выбор других сайтов, выбор людей, с которыми ты коммуницируешь, и так далее. Так что речь здесь не идет о какой-то исключительной деятельности. Речь идет просто о том, в какой степени некоторые кураторские проекты являются более резкими, более необычными, может быть, более раздражающими. В принципе, надо иметь в виду, что, конечно, художественная система больше реагирует на раздражение. То есть вообще к успеху приводит, если говорить в критериях успеха, то, что не нравится. То, что нравится, тут же забывается. А то, что не нравится и шокирует, застревает в памяти. Это нормальный человеческий механизм, и он срабатывает на наших глазах очень часто.
— Большое спасибо за доклад. У меня будет таких два полувопроса. Первый вопрос. Когда и, самое главное, почему, с философской точки зрения, искусство начало идти против конформистских настроений зрителя, его конформистского желания оставаться в собственной среде эстетической? И, может быть, это как-то связано со смертью, которая является основанием современного искусства, отсылая к вашему видеоколлажу, который вы показали вчера? Может быть, да, может быть, и нет такой связки, но вот мне интересен данный вопрос. Спасибо.
— Ну да, конечно, я говорил вчера, что все-таки искусство представляло собой в течение длительного времени попытку преодолеть смерть, но преодолеть смерть не спиритуальным образом, не через дух и не через душу, а через технологию.
Дело в том, что очень важно для нас, что мы принимаем гибель всего. Очень многие люди после Дюшана и его этого уринуара выставленного говорили, сейчас стерлась граница между искусством и неискусством, но это полная чушь, потому что уринуаров, вообще говоря, очень много. Они стоят в каждом туалете. Никто о них не заботится, и когда они приходят в негодность, их выкидывают. А пять уринуаров, которые подписаны Дюшаном, стоят в ведущих музеях. Их судьба отличается от судьбы всех остальных уринуаров, вот в чем дело, и отличается радикально.
В основе искусства традиционного лежало вот это вот различие между вещами, смерть которых мы принимаем, и вещами, смерть которых мы не готовы принять. Уничтожение какой-нибудь «Моны Лизы» воспринимается как варварство, мы не готовы его принять. И вот эта неготовность принять гибель объекта — довольно странная вещь.
В свое время меня привлекли к участию в обсуждении следующей темы. В Мекке должна была быть реконструкция системы транспорта, потому что много слишком паломников, и там люди гибли во время паломничества. И в процессе этой реконструкции они предполагали, и это и было сделано, уничтожить сад, в котором гулял пророк Мухаммед. Все музейное сообщество было возмущено, и специалисты мусульманской религии сказали, что это возмущение является следствием варварского сознания европейцев, которые считают, что один предмет лучше другого, один сад лучше другого. Оттого, что там прогуливался Мухаммед, это его лучше не делает. Так что я просто хочу сказать, что-то, что воспринимается варварством в одной парадигме, оказывается сильно отличным от того, что воспроизводится как варварство в другой.
Дело в том, что очень важно для нас, что мы принимаем гибель всего. Очень многие люди после Дюшана и его этого уринуара выставленного говорили, сейчас стерлась граница между искусством и неискусством, но это полная чушь, потому что уринуаров, вообще говоря, очень много. Они стоят в каждом туалете. Никто о них не заботится, и когда они приходят в негодность, их выкидывают. А пять уринуаров, которые подписаны Дюшаном, стоят в ведущих музеях. Их судьба отличается от судьбы всех остальных уринуаров, вот в чем дело, и отличается радикально.
В основе искусства традиционного лежало вот это вот различие между вещами, смерть которых мы принимаем, и вещами, смерть которых мы не готовы принять. Уничтожение какой-нибудь «Моны Лизы» воспринимается как варварство, мы не готовы его принять. И вот эта неготовность принять гибель объекта — довольно странная вещь.
В свое время меня привлекли к участию в обсуждении следующей темы. В Мекке должна была быть реконструкция системы транспорта, потому что много слишком паломников, и там люди гибли во время паломничества. И в процессе этой реконструкции они предполагали, и это и было сделано, уничтожить сад, в котором гулял пророк Мухаммед. Все музейное сообщество было возмущено, и специалисты мусульманской религии сказали, что это возмущение является следствием варварского сознания европейцев, которые считают, что один предмет лучше другого, один сад лучше другого. Оттого, что там прогуливался Мухаммед, это его лучше не делает. Так что я просто хочу сказать, что-то, что воспринимается варварством в одной парадигме, оказывается сильно отличным от того, что воспроизводится как варварство в другой.
«Мы принимаем в очень таком субтильном и не очень ясно сформулированном варианте смерть искусства. Мы начинаем ее осознавать, принимать и тематизировать»
Мы воспитаны в этой парадигме вот этого вот различения между аристократическими, духовными предметами и обычными. До сих пор это различение было структурным.
Мне кажется, что дело меняется. Смысл моего доклада заключается в том, что в каком-то смысле мы принимаем в очень таком субтильном и не очень ясно сформулированном варианте смерть искусства. Мы начинаем ее осознавать, принимать и тематизировать. Поэтому я говорил, что эффект присутствия относится не к настоящему, а к прошлому. Мы готовы документировать искусство, так, как мы документируем любую другую историческую деятельность, то есть как прошедшее.
Мне кажется, что дело меняется. Смысл моего доклада заключается в том, что в каком-то смысле мы принимаем в очень таком субтильном и не очень ясно сформулированном варианте смерть искусства. Мы начинаем ее осознавать, принимать и тематизировать. Поэтому я говорил, что эффект присутствия относится не к настоящему, а к прошлому. Мы готовы документировать искусство, так, как мы документируем любую другую историческую деятельность, то есть как прошедшее.
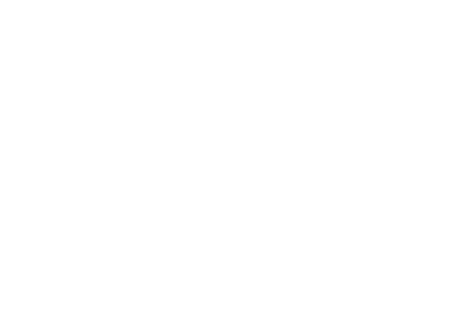
Мы готовы о ней помнить, это да, но мы перестали или перестаем (это какой-то процесс) верить в то, что искусство может стать вневременным, вечным, что оно может трансцендировать прошлое. Вот эта, мне кажется, вера начинает теряться. То, что я описываю, я бы это назвал вторым этапом секуляризации искусства. Если первым этапом секуляризации была потеря веры в дух и избирательная вера в вечность каких-то вещей, то сейчас второй этап — это представление о том, что все относится к сфере воспоминаний, ничто не может трансцендировать прошлое.
— А как все, что вы сказали, отразилось на категориях эстетических? Как это все повлияло на эстетику репрезентации искусства и в интернете, и на современной художественной выставке? Я помню, я читала, что искусство в интернете — мы, в основном, имеем дело с информационным дизайном, еще с чем-то, — что его туда выводят. А вообще критерии эстетического, как с ними теперь?
— Вы знаете, мне кажется, что критерии эстетического вообще не имеют к искусству никакого отношения, вот если честно сказать. Между прочим, это было устойчивое мнение всех первых авторов. Если вы почитаете Канта, его критику, он вообще не считал, что категории эстетического связаны каким-то образом с искусством.
Он даже говорил, что после пяти минут разговора об искусстве я выхожу из комнаты, чтобы насладиться прекрасными чудесами природы. На самом деле, действительно, созерцание любого, даже среднего качества, заката дает вам больше эстетического наслаждения, чем любое произведение искусства. Я думаю, что проблема искусства — это не проблема эстетики.
«Созерцание любого, даже среднего качества, заката дает вам больше эстетического наслаждения, чем любое произведение искусства»
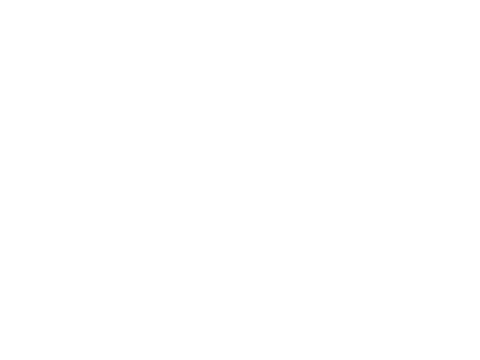
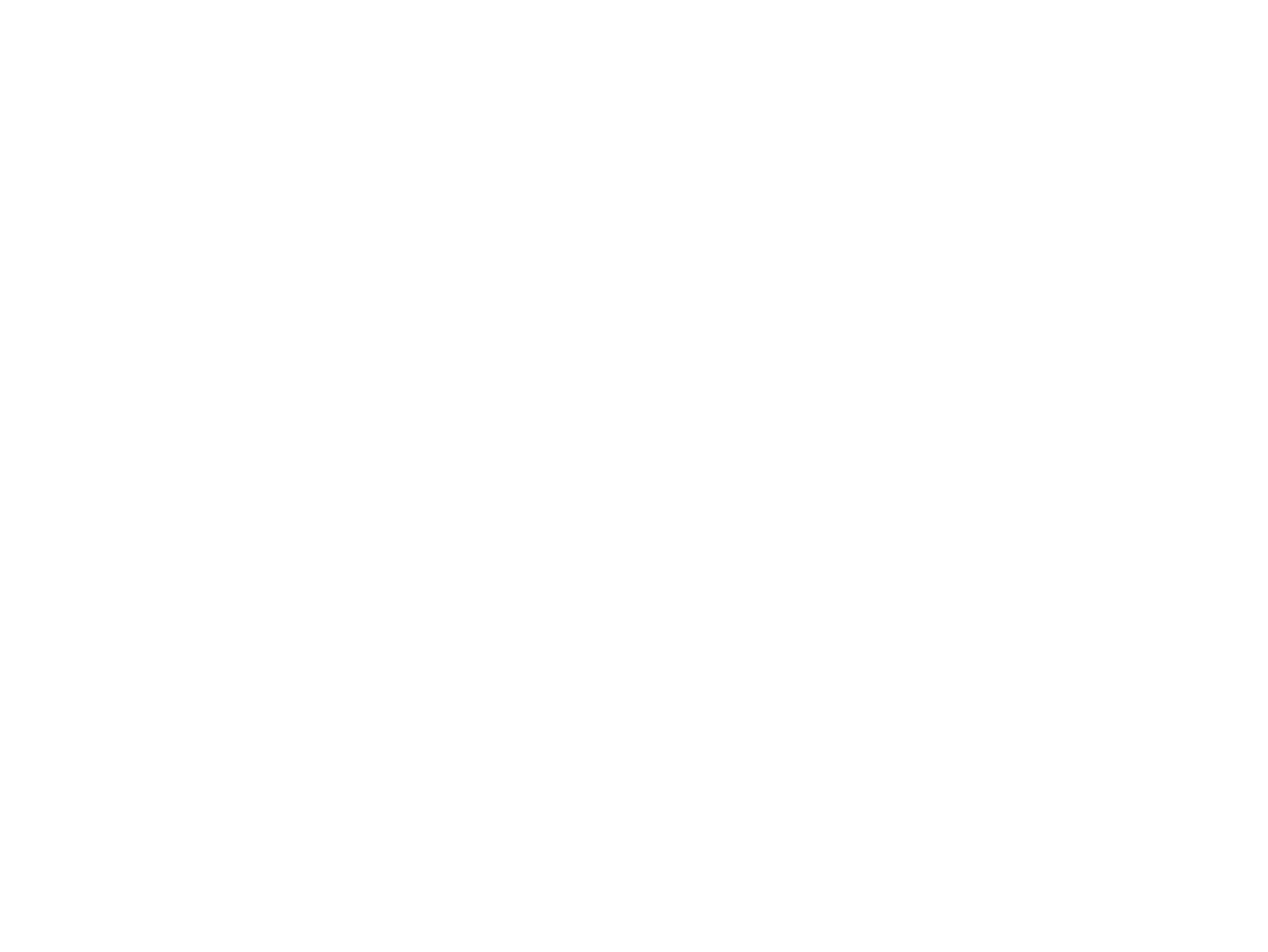
«Ситуация современной культуры — это ситуация отсутствия читателя и зрителя и миллиарды художников, миллиарды писателей»
Как правильно писал еще Аристотель, это проблема поэтики. То есть это проблема того, каким образом человек, который должен умереть, каким образом он хочет репрезентировать себя в мире.
На самом деле единственная проблема искусства — это проблема художника. Для зрителя искусство вообще никакой роли не играет. И в действительности, если мы посмотрим на современные интернет-системы, все хотят выставиться, никто ничего не смотрит, все хотят что-то сказать, никто никого не слушает.
На самом деле единственная проблема искусства — это проблема художника. Для зрителя искусство вообще никакой роли не играет. И в действительности, если мы посмотрим на современные интернет-системы, все хотят выставиться, никто ничего не смотрит, все хотят что-то сказать, никто никого не слушает.
Ситуация современной культуры — это ситуация отсутствия читателя и зрителя и миллиарды художников, миллиарды писателей. Почему они пишут? Что, они хотят, чтобы прочли? Нет. Есть такая потребность. Есть потребность в поэтике, есть потребность в саморепрезентации, есть потребность в самовыявлении себя в мире. Есть эта потребность. Искусство отвечает на эту потребность. Оно не отвечает на эстетическую потребность. Эстетическая потребность вполне удовлетворяется природой. Это на самом деле Гегель уже писал, что это огромная ошибка Канта, то, что он связал вообще искусство с эстетикой. Искусство — это есть манифестация субъективности в мире, манифестация человека в мире. Это для него центральное.
Share некоторых материалов с благодарностью у: artchive / magisteria / metropolism / liveinternet / andres-baron / tumblr / artsy / fondazioneprada / labiennale
К ДРУГИМ МАТЕРИАЛАМ
Хотите регулярно получать образовательные материалы «Среды обучения»? Подпишитесь на нашу рассылку! Отправляя свои контактные данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
