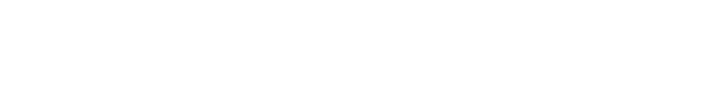
Получить консультацию
Специалисты приемной комиссии расскажут про акции и ответят на ваши вопросы
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных и получение сообщений от Среды обучения.
современное искусство / 11 февраля
Мастерская художника. Игорь Шелковский с Яном Гинзбургом
В рамках курса «Карта современного российского искусства» Ян Гинзбург провел встречу с Игорем Сергеевичем Шелковским, одним из ведущих неофициальных художников современности и редактором очень важного для искусства — и для неофициального тоже — журнала «А-Я».
— Здравствуйте! Меня зовут Ян Гинзбург. Я буду сегодня вести наше занятие, встречу в мастерской Игоря Сергеевича Шелковского, одного из ведущих неофициальных художников современности и редактора очень важного для искусства — и для неофициального тоже — журнала «А-Я». Давайте поговорим про вас сначала, про вашу биографию. Расскажите про свою семью, про отца, мать, бабушку.
— Отец работал в Москве, в «Комсомольской правде», потом его послали на периферию для укрепления кадров, в Оренбург.

— Я вкратце тогда опишу: Игорь Сергеевич рассказал ранее о том, что его отец был редактором краевой газеты в Оренбурге и в 1937 году попал под чистки. Его расстреляли. Просто, мне кажется, это важный момент, потому что Игорь Сергеевич занимался издательской деятельностью.
— Я смогу журналы показать.
— Даже журналы есть? Давайте посмотрим. Но вы жили в Москве?
— Нет, первый год я провел в лагере, потом меня забрала бабушка. Это были детские ясли, там была большая смертность.
— Из-за того, что были болезни?
— Из-за всего. Интересное воспоминание. Мать тогда занималась с детьми лагерными. Говорю: «Принесите кошку». А они с удивлением на меня смотрят, они никогда не видели кошку, вообще в своей жизни. С тех пор я жил с бабушкой в Москве, на Старой площади, в доме, где сейчас администрация президента.
— То есть во время войны вы тоже были в Москве?
— Мы там прожили всю войну.
— Вы не уехали в лагерь, я так понимаю?
— Да. Был такой эпизод, что пришли из домоуправления и сказали, что надо явиться к Москве-реке, к пристани, там будет специальный катер и нас повезут на Волгу, взять с собой еды на три дня. Бабушка собралась, собрала узелок, всё, но потом решила, что куда она поедет, тем более с ребенком. Решила: будь что будет, — и осталась. Первый год было особенно трудно, потому что в доме не было отопления, не было электричества. Под отопление бабушка купила железную печку и топила ее всем чем можно. А у нас внизу, во дворе, в подвале, была мастерская.
— Столярная?
— Столярная мастерская, которая чинила и готовила мебель для Кремля. И бабушка договорилась, ей давали опилки, стружки, обрезки дерева. Вот этим бабушка топила печку.
— А сколько вам было лет тогда?
— Четыре года, даже три.
— Вы с этим деревом тогда уже работали или нет?
— Нет.
— У меня в детстве был, например, деревянный конструктор. У меня папа столяр просто. Мне просто интересно, у вас, мне кажется, дерево — один из таких важных материалов, с которым вы работаете.
— Да не важных, а я бы с удовольствием работал в бронзе.
«Это дорого стоит, из металла. Я перевожу в металл, когда только могу. Дерево — это ненадежно. Тем более дерево нельзя ставить снаружи, оно гниет»

— Но, в принципе, многие авангардные художники, например Татлин — он тоже, как я понимаю, работал с деревом?
— У меня станковые вещи. Нет, из дерева тоже можно, не отрицаю. Просто я объясняю свое отношение.

— То есть для вас дерево — это скорее такой макетный материал, я правильно понимаю?
— В общем, да.
— То есть попробовать, посмотреть, как эта работа будет выглядеть, да?
— Мне важен объем, пластика. А из чего это…
— Расскажите про то, как вы поступали в Училище 1905 года, и вообще обстоятельства того времени, с какого раза поступили, как вам удалось это сделать?
— Я хотел быть художником. А в училище можно было поступать после 7-го класса, училище на уровне техникума считалось. Я пошел после 7-го класса, подал документы. Стал сдавать экзамены и не прошел. Мне поставили двойку за живопись, что меня удивило, потому что я как раз в изокружке считался хорошим живописцем, акварелистом.
— Но вы в одном интервью говорили, что вы написали…
— Биографию.
— Честно написали, как все есть, не стали скрывать.
— Да. Были сталинские времена. Я написал, что мой отец расстрелян как враг народа. Там же надо биографию, кто родители. Я думаю, вот это вот и сыграло свою роль.
— Но вы понимали, что это провокативность?
— Нет, я ничего такого тогда не подумал.
— Просто честно написали, как есть.
— Да. Ну, не прошел — я пошел обратно и продолжал учиться в средней школе. Потом после 9-го класса я решил, что еще раз потренируюсь, попаду — не попаду, тогда уже после 10-го я буду совсем уверенным, еще раз тогда после 10-го наверняка попаду. Пошел после 9-го, но это уже был 1954 год. Сталин умер.
— Как вы к Сталину относились, когда еще были ребенком?
— Да никак. Кроме любопытства, ничего. То есть любопытство — а что дальше будет. Родители многие паниковали, что на нас теперь Америка нападет.
— То есть был страх такой большой?
— Страх — да, был, как же, теперь весь мир против нас.
— А на кого вы пошли учиться в это Училище 1905 года?
— Там был выбор, педагогическое отделение и театральное. На педагогическом учили суровой передвижнической живописи.
«А на театральном была некоторая свобода мысли»
Так вот, я пошел уже в 1954 году и сразу же поступил, сразу же моя фамилия в списках. И стал учиться. Театральное отделение было таким левацким немножко, и народ был гораздо интеллигентнее. Там было всего 12 человек.
— То есть такой маленький курс у вас?
— Да, да.
— Но у вас были мастера, которые вас учили, то есть особенные такие преподаватели?
— Наш профессор был Виктор Алексеевич Шестаков, бывший художник театра Мейерхольда, который еще какой-то дух с тех времен принес.
— 1920−1930-х годов?
— Да.
— То есть он был знаком, скажем так, уже с авангардным кругом?
— Он со всеми был знаком. Он нас немножко подзуживал. Я, говорит, в 17 лет уже премии получал на международных выставках. Но он понимал, конечно, что наши времена очень отличаются от тех. Потом он умер, и нам надо было кого-то позвать на царство. Было две кандидатуры: Рабинович и Фаворский. Фаворский тоже ведь и в театре делал постановки.

— Я думал, что он только художник книги.
— В 1920-е годы он работал в театре. Но потом сторонникам Фаворского стало его жалко, что он, старик, поднимается к нам на пятый этаж. Позвали Рабиновича. А Рабинович — потом оказалось, что он тоже — у него болезнь сердца — к нам не ходил, и мы к нему ходили в мастерскую.
— То есть 12 человек ходили на занятия к нему?
— Да. Я так проходил, скользил взглядом по книжным полкам, там стояли Ницше, Шопенгауэр — то, чего не было тогда.
— А сколько у вас было занятий в течение недели, как часто они проходили?
— Тогда была шестидневная неделя. Каждый день. То есть мы и академический курс проходили, карандашом, акварелью, маслом, и обнаженная натура, портрет, композиция. Так что учились.
— И получается, что как театральный художник вы сразу не стали работать, то есть через какое-то время только первый раз?
— Вот когда распределяли, на меня пришло письмо, что в Оренбург нужен театральный художник, и я уже готовился поехать туда. Потом перед самым отъездом пришло другое письмо, что нет, не надо, нет условий каких-то. И я остался. Я год работал в разных издательствах, делал обложки к наборам открыток, в общем, какая-то такая мелкая графика, но зарабатывал.
— То есть вы как графический дизайнер, получается, работали какое-то время?
— Да, примерно так.
— Это конец 1950-х годов или 1960-х?
— Начало 1960-х. Когда еще мы учились, нас соединили с ГИТИСом, потому что у них по программе шло работать с художником, а у нас по программе была работа с режиссером. Меня там соединили с одной режиссершей, Таней Глаголевой.
«А учиться было интересно, потому что предметы совсем были необычные: техника сцены, история театра, история костюма, конечно, история искусства, и вот работа с режиссером. И еще мы попросились, и нас пустили историю кино смотреть, курс истории кино: и Хичкок, и Чаплин. Ничего не было ведь. Мы жили в сталинские времена, когда все было закрыто, железный занавес. Мирового кино не существовало для нас»
— То есть это в училище прямо показывали фильмы?
— Нет, не в училище. Мы ходили в ГИТИС, там специальный кинозал был.
— А расскажите про Зверева. Очень, мне кажется, интересная история.
— Просто я когда перечисляю, кто из неофициальных художников будущих там учился, — Рогинский там учился, Есаян, Плавинский.
«И короткое время был Зверев, но он был такой недисциплинированный человек. Как-то звонок уже прозвучал, надо идти на занятия, а он увлекся и рисовал нашу секретаршу: такая старушка, божий одуванчик, с седыми кудрями. А он рисовальщик был хороший. Он всегда очень метко рисовал, еще в ранний период. И приходит завуч, он же секретарь парторганизации: „А что, звонок не для вас был? Почему вы здесь, что вы делаете?" Взял у него лист бумаги, портрет, перевернул, а там портрет Сталина»
— То есть он с обратной стороны рисовал?
— Да, он рисовал на чистом и не знал, что он схватил. Такой спонтанный, схватил. Ну и вот, плюс все эти скандалы.
— Я, кстати, видел работу Зверева, портрет Сталина, в его стилистике. Есть у него портрет Сталина. То есть, видимо, для него это действительно была какая-то такая неприятная ситуация.
— Нет, я не думаю, что он так сожалел, что он Сталина попортил.

— Нет, не то, что Сталина попортил, а в том смысле, что он переживал, что его выгнали с учебы.
— Его выгнали, ушел, в общем-то. Я тоже думаю, он не страдал особо.
— Расскажите про Владимира Слепяна еще, про круг художников вокруг Владимира Слепяна.
— Началась перестройка, и у людей стало меньше страха.
— Это во время Хрущева?
— Хрущева, конечно. Стали друг с другом разговаривать. До этого боялись слово сказать, потому что была такая поговорка: у стен есть уши. И могли донести, и оклеветать могли, сказать, что вот он рассказал какой-то антисоветский анекдот, а он не рассказывал. То есть такой террор, особенно последние эти сталинские годы. То есть люди боялись людей, друг друга.
— А Слепян?
— А началась перестройка, и уже люди как-то стали более доверчиво друг к другу относиться. Со Слепяном мы познакомились на лестнице ЦДРИ (Центральный дом работников искусства). По-моему, там была в это время выставка Павла Кузнецова. Павел Кузнецов тоже считался формалистом, таким формалистом, импрессионистом.
— В то время «импрессионизм» — это было такое ругательное слово?
— Это как сейчас слово «экстремист». То есть если вас прозвали импрессионистом, уже поздно оправдываться, так же, как вот вас назвали экстремистом, — никто не знает, что это такое, тем не менее это все убойно действует.
— Но Слепян — я про него спросил, потому что он, как я понял, делал абстрактные такие вещи.
— Потом. Он сначала ничего не делал. Он приехал из Ленинграда. Вообще он по образованию математик. Он учился на математика. Он приехал в Москву и из Ленинграда привез холсты Целкова. Они там подружились. И у него стояли в большой пустой комнате эти холсты, и ходила публика, и он зазывал на просмотр работ Целкова.

— То есть это такая квартирная выставка, можно сказать, была?
— Да. При Сталине это было бы невозможно, потому что бы донесли, арестовали. А в оттепель уже это можно. И ходила публика, и довольно много. И у нас был такой кружок единомышленников, то есть Володя Слепян, Олег Прокофьев, сын Прокофьева, Волконский Андрей, музыкант.
— Композитор, да.
— Да, потом Игорь Куклес, Наташа Касаткина (вот ее портрет) и я. Тогда было много выставок. Мы ходили по мастерским.

Помню, Володя Слепян дал мне задание. А я был на 10 лет моложе, так что я слушался и подчинялся. Дал мне задание, чтобы я договорился с Дейнекой, посмотреть у него мастерскую. Дейнека меня отшил тут же.

— Вы позвонили, а он не ответил вообще?
— Просто я когда перечисляю, кто из неофициальных художников будущих там учился, — Рогинский там учился, Есаян, Плавинский.
«У меня будет там выставка в академии, идите и смотрите»
— А как вы к Бурлюку попали, расскажите?
— Вот это вот тенденции Володи Слепяна — знакомиться со знаменитыми людьми.
— Со звездами?
— Со звездами, да, чтобы они нас тоже выволакивали из небытия. И он в газете «Вечерняя Москва» прочитал крошечную заметку, что в Россию приезжает дедушка русского футуризма Давид Бурлюк, по приглашению Николая Асеева. Николай Асеев был советским поэтом. И достал каким-то образом телефон этого Бурлюка и договорился с ним о встрече. Тот сказал, что вот придете тогда, завтра или послезавтра, я вам уделю 15 минут, в 9 Касаткина с холстами со своими и Володя Слепян с несколькими работами Целкова идем, гостиница «Москва». Там на каждом шагу, на каждом повороте стоят такие типы, которые глазами пронизывают.
Еще при Сталине знакомство с иностранцем — это было почти преступление: могли арестовать, могли подписать шпионаж. Это много очень было таких случаев. Лифт сломался, мы пешком идем по этим коврам, на третий или четвертый этаж.
«Звоним в дверь. Открывается дверь, и там стоит роскошный Бурлюк в клетчатой рубашке, с подтяжками, такой радушный. Втягивает нас в этот номер гостиничный. И первая его речь — он рассказывает о себе: „Я тот-то, тот-то, я дружил с Маяковским, с Хлебниковым…“»
— А как он разговаривал: «Я отец русского футуризма», да?
— «Отец» не сказал, а может, и сказал, да. Он был в Японии, потом в Америке с такого-то года, двое сыновей, один успешный архитектор, другой — дизайнер. Вот такую краткую о себе характеристику, уже на американский манер. Слова у него тоже: «Мы с Марией только что скушали маленький breakfast». И вот уже 15 минут проходит, кончается, и вдруг он начинает жаловаться, что вот он едет жить на дачу у Асеева и задумал написать колхозные пейзажи. И вот он купил в Финляндии много холста в рулонах и подрамники, не могли бы мы ему помочь натянуть холсты на подрамники. Долгая работа, а нас все-таки трое. Но мы с радостью: «Да, да», — и занимались этим целый день до вечера.
А к нему в это время ходили всякие знаменитые люди: Катаев, Шкловский, еще кто-то. Им он точно время определенное уделял. Но и чтобы холсты натягивать, нужны гвоздики, и вот я побежал за этими гвоздиками. А гвоздики были довольно далеко, примерно где музей Маркина.

— Art4, да.
— В этом переулке, только на другой стороне, там была керосиновая лавка. Тогда ведь готовили на керосиновых лампах, разливали черпаками керосин. И там же гвоздики. Кулек этих гвоздиков мне насыпали, и я бегу обратно. И вот мы до вечера натягивали холсты.
— А сколько всего было, много?
— Ну я не знаю, десятка полтора было. Вот таким образом прошла эта встреча с Бурлюком.
— Расскажите еще про Крученых тогда. Как вы попали к Крученых домой?
— У меня был школьный приятель, Сережа Зарин. Он был такой немножко похожий на слона, довольно толстый, грузный, толстый, с большим животом. У него был дефект речи. Его никогда не вызывали к доске.

— А в чем выражался? Он плохо как-то говорил?
— Да, когда он начинал говорить, сначала из носа шло шипение, свист, потом еще что-то, какие-то слова, не очень понятные, но потом налаживалось. Ему завидовали, потому что он всегда письменные ответы писал. К доске не вызывали. А мы с ним дружили. Я ездил к нему домой.
— На Бауманскую?
— На Бауманскую. А там был какой-то троллейбус. Играли в шахматы. Он еще был чем интересен? Он коллекционировал русскую поэзию Серебряного века, и у него стояли сборнички, которые он даже в руки не давал трогать, а тем более разглаживать. Вот эти первые издания Ахматовой, Гумилева, Хлебников у него был. Он это собирал. И он где-то узнал, что бедствует Крученых и продает свою библиотеку, и попросил меня пойти с ним, поскольку ему говорить трудно, чтобы мы вместе пошли. И мы пошли. Это дом на Мясницкой, там был бывший почтамт и магазин чая-кофе. Там во дворе такой большой дом, семиэтажный, дореволюционный.
И оказывается, в этой квартире жила еще художница Удальцова. А квартира коммунальная, то есть когда-то там жила одна семья, а при советской власти было уплотнение, поэтому каждая семья имела право на одну комнату, хоть пять человек, хоть семь. И нам там показали темный коридор, что в конце направо дверь Крученых.

Мы пошли и стучимся. Стучимся, и я слышу… Сережа плохо слышал, поэтому он ничего не понимал, эти события. А я слышу оттуда крик: «Денег нет!» Что такое? А Сережа неистовствует: «Что он говорит, что он говорит?» Стучимся — опять: «Денег нет!» Тогда открываем дверь, там полная темнота, отблики от окна немножко. Останавливаемся, и там такая картина: пустая довольно комната, и вот эти пачки книг, такие столбики книг по всему периметру.
— А какой высоты столбики?
— Они разные: были поменьше, были побольше.
— То есть такие пирамиды?
— Да, просто сгрузили с полок или сундуков, откуда-то. По периметру комнаты. Посередине стоит кровать железная. На ней лежит человек с одеялом, натянутым до глаз. Под кроватью стоят бутылка кефира и ночной горшок. И он так испуганно: «Вы откуда, из домоуправления?» Мы говорим: «Нет». — «У меня денег нет, денег нет». Я начинаю объяснять, что мой друг коллекционирует поэзию и очень хотел бы что-то у вас приобрести, если можно, и, кроме того, я привез ваш сборничек, вы не могли бы мне автограф? «Нет, нет, я никому не даю автографов, и потом, я вас не знаю, что я могу написать, и вообще у меня нет времени, у меня сейчас запись будет в музее Маяковского, еще где-то». В общем, нас выгонял. И так и не написал ничего и не продал ничего. Он еще потом жил года три, по-моему. Бедный.
— Но потому что он был очень увлечен, мне кажется, литературой, конечно, и ему некогда было действительно думать о жизни и о том, как зарабатывать деньги.
— Нет, просто времена другие, не 1920-е годы. Были годы 1960-е, то есть перестройка была, но он-то не советский писатель. Советские писатели получали за свою работу деньги регулярно. Им устраивали поездки по стране, кормили, поили в ресторанах, везде они делали какие-то доклады — или о своем творчестве, или воспоминания о других советских писателях. Таким образом жили, жили многие очень хорошо, шикарно. А он был вне, как и все, как и Малевич в конце жизни. Их отовсюду выгнали, где можно было, и Родченко.
Из писателей мы еще с моей режиссершей Таней Глаголевой побывали у Олеши. Тоже было очень интересно. Первый раз пришли, его дома нет. А у него просто дужка закрыта вообще. И зашли к нему, у него там везде пластинки, пропыленные уже, многоиграющие пластинки Бетховена. Он писал пьесу о Бетховене. Так он говорил. Не знаю, дописал он ее или нет. Это первый раз мы без него, хотя там все было открыто. А второй раз он сам уже был, сидел стучал на машинке. У ног стояла бутылка пива. Так иногда выпьет, говорит, что извините, я вас не угощаю, это как лекарство. Он алкоголик был, но говорил очень интересно.

— А вы к нему пошли, потому что, как я понимаю, хотели поставить «Три толстяка», спектакль?
— Да. Вот эта Таня Глаголева.
— Режиссер?
— Да. Как раз перед этим родился маленький сын, и ей хотелось в подарок сыну поставить спектакль-сказку.
— А вы должны были делать, соответственно, декорации?
— Да. Но потом что-то театр не захотел. Поставили другие сказки, три сказки: китайскую, болгарскую и польскую. А второй спектакль был «Принц и нищий». Вернее, он назывался «Нищий и принц».
— То есть в Советском Союзе наоборот?
— Да, Сергей Михалков, перевод. Первым надо пролетария поставить.
— А в каком городе вы делали?
— Город Тула, Театр юного зрителя. Это был 1961 год. Это был, может быть, самый голодный год в хрущевское правление. То есть в Туле нельзя было купить ничего в магазинах, ничего не было. Кто ехал в Москву, должен был по просьбе остальных купить масло, потому что с остальным сложно, а вот это масло в пачках. Москвичи, кстати, в пачках не любили. Было развесное более свежее, а тут какое там развесное, брали в пачках. Причем когда ездил каждую субботу в Москву, обратно я вез целый чемодан масла. Все, начиная от директрисы, кончая уборщицей и гардеробщицей, все просили: «У меня дочка больная, ребенок».
— Продуктов?
— Продуктов. Ходили на рынок, молочный ряд был пустой, только в конце две-три женщины с бидонами, но в этих бидонах не молоко, а мед. А молока не было. В бидонах они продавали дорогой мед, а молока вообще не было. Только выдавали в детских консультациях. И в магазинах полки заставлены: водка, злаковый кофе, суррогат, из травы, спички, сигареты и ничего из еды. И если было что-то, возили из Москвы. Тогда в Театр эстрады были экскурсии, культурный поход в Москву. У них был театральный автобус, они разъезжали на этом автобусе отстраненно, по области. Вот этот автобус ехал в Москву, где-то стоял ждал, все разбегались по магазинам, потом с сумками, пять килограмм апельсинов, еще что-то, сколько колбасы, это масло. Все обратно в этот автобус и ехали с покупками, возвращались назад. А по городу — там центральное шоссе такое через весь город — едут цистерны, написано «Молоко», и все это для этих проклятых москвичей. То есть мы москвичей ненавидели.
— Может, там пустые бидоны ехали. Написано «Молоко», а что там внутри — неизвестно.
— В этот год что случилось? Хрущев по собственной глупости издал указ, что в небольших городах нельзя иметь коров. И те, у кого раньше это было, естественно, там окраина, там почти деревня, были сарайчики, коров держали, а тут все должны были порезать этих коров. И секретарь партии соседней области, какая там, Калужская, он скупил этих коров, всех их порезали. Он перевыполнил план по мясу на этот год. Потом его разоблачили, и он покончил с собой, застрелился. Жена потом, мне показывали, плакала на могиле мужа.
— Ужас какой. Расскажите про Семенова-Амурского еще. Мы можем сделать небольшой перерыв, пройти посмотреть мастерскую, а потом к журналу вернуться. Потому что, мне кажется, Семенов-Амурский для вас очень важный художник. Вы делали выставку недавно его в МАММ, да?

— Ну да, как бы мой учитель. Познакомились мы в Музее Пушкина. Музей Пушкина при Сталине был музеем подарков Сталину. Подарки были скучнейшие и отвратные. То есть в основном ковры с его изображением, вазы, тарелки, одно и то же. Это разбавлялось какими-нибудь саблями, шашками, ружьями. Отдельно стоял экспонат, большой-большой телевизор с каким-то мутным экраном, сделанный в одном экземпляре, и было написано: «Сталину от чекистов». Берия постарался, на своей шарашке где-то там заказал. Я не знаю, включался он или нет, потому что тогда еще не было телевидения. И Сталин умер, и постепенно убрали этот музей подарков.

— Расформировали.
— В запасники. Кстати, запасники находились, по-моему, в Троице-Сергиевой лавре. И стали вывешивать старую живопись, то, что до этого было в музее, потихоньку, потихоньку стали заполнять. Потом дошло дело по времени до импрессионистов.
«Сначала боялись, колебались, но потом все-таки начали вывешивать. Первый — „Стог сена“ Клода Моне, как наиболее реалистичная вещь. Потом „Бульвар капуцинов“, Писсарро, Моне. Ван Гога повесили: о заключенных, социальная тематика, значит, можно советскому зрителю. А потом совсем распоясались: Дега, Гоген и Матисс. У нас в училище слух прошел, что в Музее Пушкина повесили Матисса, и мы в этот же день побежали»
Музей был открыт до 9 или до 10 вечера. Нашли этого Матисса, его «Цветы в голубой вазе». Восторгаемся, и рядом стоит человек, высокий, с кудрями на голове, в черном галстучке, я помню. И он начал как-то с нами разговор: «Вам нравится?» Мы говорим: «Да, да». В общем, пошел разговор, потом уже музей закрывается, мы оделись. Была осень, октябрь-ноябрь. Пошли с ним за этими разговорами и пешком дошли до его дома.

— А он состоял в МОСХе?
— Он состоял в МОСХе, да. То есть в начале 1930-х годов он был в группировке, которая называлась «Четыре искусства» *: архитектура, графика, живопись, еще что-то. Там и Фаворский был. Но потом их всех слили, как он говорил, в один колхоз, и стал Союз художников СССР.
* «Четыре искусства» — художественное объединение, существовавшее в Москве и в Ленинграде в 1924–1931 годах. Общество было основано художниками, входившими ранее в Мир искусства и Голубую розу.
* «Четыре искусства» — художественное объединение, существовавшее в Москве и в Ленинграде в 1924–1931 годах. Общество было основано художниками, входившими ранее в Мир искусства и Голубую розу.
— Или Москвы?
— И Москвы. Отделение. МОСХ — это московское отделение. И он там был на таком счету: какой-то художник, близкий к формалистам, настоящий реалист, в общем, не соцреалист.
— Идеологически неправильный.
— Неправильный, да, и по форме, и по содержанию.
— Это в мастерской то, что у него было? Квартира?
— Он жил в комнате. Это не квартира. Комната 12 метров в коммунальной квартире. Была какая-то холщовая занавеска, разделяла пополам, там его жена сидела, писала, занималась литературой, поэзией, а рядом он с красками. Соседи не очень к ним были расположены, потому что они утром должны идти на работу, а эти сидят такие, интеллигенция, целый день дома. И вот с этого началось. Сейчас расскажу. 1949 год, его решают исключить из Союза художников.
— За формализм?
— Даже не то что за формализм, а за то, что он не создает произведения в стиле соцреализма. Все пишут заводскую тематику, колхозную тематику, а у него что-то такое непонятное. Вот идет собрание. Там сначала всякие финансовые дела обсуждают, потом еще там что-то, потом уже к концу собрания все устали, и надо вопрос с Семеновым-Амурским решать. И такой Шмаринов тогда был секретарем МОСХа. А он человек интеллигентный, но такой как бы продавшийся. Он встал и сказал:
«Дорогие друзья, вопрос Семенова-Амурского, ну хорошо, мы с вами все гении, но пусть среди нас будет хотя бы один просто талантливый. И так все рассмеялись, и его перевели из членов в кандидаты. Был такой еще статус кандидата»
— То есть он ему помог?
— Да, он помог. По крайней мере у него остался членский билет, потому что без членского билета не продавались… А там у них внизу был…
— Краски. Магазин с красками.
— Да, магазин, киоск. Там краски, кисточки. Кисточек не купишь.
— В том месте сейчас как раз находится образовательный центр Московского музея современного искусства. Этот момент довольно интересный, мне кажется, как все меняется. Там был МОСХ, сейчас там другое что-то.
— Была заикающаяся продавщица, но добрая. Она иногда могла и без билета нам продать.
— Расскажите про то, как вы решили уехать. Вы вообще планировали, что уедете?
— Ничего я не планировал. Экспромт.
«Я уехал с советским паспортом и остался там. Был такой момент: мне надо было решать, остаюсь ли я навсегда или возвращаюсь тоже навсегда. Я решил остаться навсегда. Хотя очень трудно, мне было 40 лет»

— Вы когда познакомились с Борисом Орловым и с Приговым?
— Познакомился в 1969 году. Нас послали в Дом творчества имени Кардовского в Переславле-Залесском. Была такая Наташа Яблонская, работала секретарем молодежной секции. И она составила молодежную группу, где собрала таких вот людей, с которыми я потом всю жизнь дружил: Саша Косолапов, Иван Чуйков, Боря Орлов, Слава Лебедев. И мы все там познакомились.

— А это молодежная секция чего была?
— МОСХа. Там иногда, с одной стороны, вот такой деспотизм, а с другой стороны, иногда художников как бы подкармливали. Давали путевки. Там мы два месяца жили, нас кормили. Все дружно рисовали, ели, пили. С тех пор это.
— Но вы с ним советовались, когда уезжали, ехать или не ехать вообще в принципе?
— Да, или возвращаться. Он сказал, что в тебя уже все верим.
— Но вы взяли с собой две работы, правильно я помню?
— Немножко больше. У меня одна работа, я ее так делал, именно в расчете, что кто-нибудь найдет. Она разбиралась. И потом я к этим разборным еще добавил уже две разборных. Но никто не проверял.
— А вы в Цюрихе были?
— А вот где-то на границе долго-долго мы стояли, в конце уже перед самым отъездом какой-то офицер выскакивает: «Вот вы здесь написали в декларации, что вы скульптуры везете. Где вы их покупали?» Я говорю:
«„Нигде не покупал, мое“. Неинтересно»
— Но вы получили разрешение на вывоз работ?
— Да. Но там никто не стал проверять. Я боялся, что они потребуют всё развернуть, собрать и увидят, что там лишние есть. Никто не требовал. А потом их просто было бы трудно очень завернуть. Алик Сидоров помогал все заворачивать.
— Алик Сидоров — это кто?
— Алик Сидоров — это московский редактор.
— Да, с которым вы в паре вместе делали журнал.
— Да.
— Давайте вернемся к журналу. Это первый номер у нас, да? Это седьмой.
— Тут еще второго нет.







— Второй есть. И вот Семенов-Амурский, это третий. Значит, вы поехали. Сначала вы были в Швейцарии, сколько, десять дней, да?
— Да.
— А потом вы поехали в Австрию и оттуда сказали, что вы хотите эмигрировать в Париж, правильно?
— Да, да.
— И вы в Париже так и остались, то есть вы там достаточно долго работали, у вас была мастерская.
— Она и сейчас есть.
— Но вы еще говорили, что вы работали там и красили стены, да, то есть это был период адаптации, условно говоря, в другой стране, то есть вам было непросто, вы не сразу там начали работать.
— Конечно. А что эмигранты, кому они нужны? Нет, меня там здорово поддерживали: Толстовский фонд, потом какой-то французский католический фонд, потом какой-то Фонд помощи интеллектуальным эмигрантам, называлось так. Были какие-то африканские поэты, польские актеры, в общем, все, кто сбежал из своих стран.
— Со всего мира?
— Ну да.
— Но вы тогда поняли, что французское искусство, которое вам казалось ведущим в мире, оказалось не совсем таким, и появился уже тогда американский поп-арт и много всего другого интересного.
— Нет, это мы всё знали еще здесь.
— Почему вы вдруг решили журналом именно заняться?
— Я познакомился в Москве через Костаки с швейцарским бизнесменом, который коллекционировал искусство.
— Но он видел ваши работы уже, он знал, что вы делаете?
— Видел работы у Костаки. Познакомил его со всеми художниками, с которыми сам был знаком. Потом я уехал, и мы уже с ним встретились в Париже. И вот вторая или третья встреча — он меня спросил, почему бы художникам не издавать свой журнал. И вот я сказал: «Хорошо, давайте».
— Но он не был коллекционером все-таки? То есть он не собрал коллекцию неофициального искусства?
— Да. И зря. Мог очень хорошую коллекцию собрать.
— То есть он купил там техническую всякую начинку, вам стол для работы, печатные всякие вещи?
— Он мне купил пишущую машинку и такой стол, макеты светящиеся.
— С подсветкой.
— Да.
— И вы на нем делали журнал?
— И я делал, да, но вот после первого номера он куда-то исчез.
— То есть он с вами сам перестал выходить на связь?
— Да. И мне надо было искать какие-то другие источники.
— Вообще я когда первый раз увидел журнал, у меня было ощущение, что это вообще только сейчас.
— Вот он не устарел. Мне очень нравится.
— Он действительно как будто сделан вот вчера прямо, и по дизайну, и по тому, как он выглядит. И вообще прекрасная вещь, очень интересная. То есть всего вышло семь номеров, правильно я понимаю?
— Да, и один литературный.
— И получается, что сейчас вы выпускаете книгу, правильно я говорю?
— Да, да, правильно. Письма художников в журнал.
— Но у вас очень сложно было устроено все. То есть вам присылали слайды, присылали тексты, но их нельзя было просто послать по почте, потому что они бы просто до вас не дошли. И, соответственно, их передавали разными способами: через дипломатов, славистов, то есть через кого-то, кто постоянно ездил.
— Вот эти студенты — я им очень благодарен до сих пор, что они, рискуя своей карьерой, очень много перевозили.
— Но вы мне рассказывали, что иногда даже люди брали какие-то вещи, но по дороге выбрасывали.
— Были такие, да. Страх.
— Боялись, что что-то найдут.
— Да.
— А, например, вот у Алика Сидорова, вы говорили, даже проходили часто обыски достаточно.
— Да, это было.
— А сколько раз примерно? Раз пять, наверное, да?
— Около этого, наверное.
— То есть это были обыски, забирали все материалы для журнала?
— Мешками просто. Один обыск — ему надо было чем-то зарабатывать на жизнь, и он стал какую-то ювелирку делать, какие-то я ему оттуда посылал инструменты. Вот пришли и всё забрали, все эти орудия производства. И некому жаловаться.
— Вообще он фотографом был. Известная серия, которую он сделал, называется «Киммерия», но она недавно была, только несколько лет назад, первый раз показана. А расскажите про тех художников, которые печатались в журнале, и про статью — известная там напечатана статья Гройса, да? Это первый же был номер, по-моему?
— Первый номер. Но мне важно было, когда пишет сам художник о своем творчестве. Это всегда интереснее, чем если кто-то посторонний, вроде критика или специалиста.
«Потому что художник-то — он знает, что он делает и что он хочет делать. И там были такие статьи»

— Косолапов, например, из Нью-Йорка, получается, вам писал?
— Да, очень активно.

— То есть он практически соредактор был или нет, помогал, да?
— Да, первые номера.
— В какой момент стали вызывать в КГБ художников?
— После первого же номера.
— То есть сразу же это началось?
— Потом особенно нажимали уже после литературного, потому что, очевидно, считалось, что художники — это так себе, неважно, а вот уже текст, литература…
— То есть это идеологическое как бы такое пространство, в которое нельзя было уже проникать.
— И стали, да, художников вызывать и грозить, угрозы такие, что у вас не будет мастерской, работы не получите, пришлите письмо Шелковскому, что вы отказываетесь иметь дело с этим журналом.
— А вы с Оскаром Рабиным общались в то время?
— Конечно, да.

— То есть вы с ним встречались. А вы не печатали, кажется, да, работы?
— Нет, просто не успел. Ведь если бы вышло не семь номеров, а семьдесят…
— То есть вы планировали, что это будет постоянная ваша деятельность?
— Да, но потом изменились времена, и вот эта вот атака КГБ — это, наверное, был их последний демарш, потому что развалился Советский Союз.
— Я, кстати, недавно нашел статью в журнале Art in America, где описывается тоже журнал «А-Я», что он начал выходить. Роберт Сторр, по-моему, если я не ошибаюсь, написал большую, интересную, 80-й какой-то это год, сейчас не вспомню, большая достаточно была статья.
— Вообще много статей об «А-Я» потом вышло. То есть его очень дружелюбно все встретили.
— И вот один из самых таких, мне кажется, известных случаев, когда вызывали, мне почему-то сразу вспомнился Чуйков, потому что есть даже графика Пивоварова, где Чуйков в КГБ сидит. Это как раз, видимо, это.
— Сейчас на выставке.

— Да, точно, можно посмотреть даже. Но очень интересные обложки еще, мне кажется, тут. Вагрич Бахчанян, 1985 год, коллаж такой.
— Да, вот это уже антисоветчина.
— Вот этот художник Леонид Ламм как иллюстратор книг и обложки делал очень хорошие. Тоже в Нью-Йорке жил в свое время. Вот Олег Целков. Вот как раз работы Косолапова, лозунг 1975 года. Лозунг, при этом он на фанере здесь, интересно. А вот, кстати, Семенова-Амурского работы, про которого мы сегодня говорили. Очень интересно, классические. Тут тоже можно проследить какие-то параллели с вашим искусством. Но журнал можно посмотреть в сети. Он отсканирован. Я скину вам ссылку, вы посмотрите потом подробно. Но это оригиналы, поэтому это интересно. Давайте посмотрим мастерскую тогда, у нас есть еще немножко времени. Расскажете про работы? Немножко хотя бы посмотрим. Вы сегодня мне говорили, что у вас новые работы.
— У меня везде много работ.

— Про вот эту башню, которая новая работа.
— С башней же я познакомился вчера, когда делают какие-то предметы дизайнерские. Вазы мы делали какие-то. А это просто мне пришло в голову сделать настольную лампу. Но это тоже настольная лампа. И вот такое — там изнутри электричество есть. Это, конечно, макет. Делается из металла.
— Но у вас есть работы, которые похожи, например, на архитектурные макеты, часто встречаются фигуры, похожие на человеческие, антропоморфные, и бывают животные разные. Мне кажется, у вас достаточно много разных образов скульптурных, то, что вы делаете. И еще у вас есть графика, живопись и разные похожие на объекты какие-то вещи. Кстати, вот интересно еще, Игорь Сергеевич показывал мне где-то полгода назад, что он сделал.
— Да, я наделал для себя как бы. Принцип, что здесь если увеличить в десять раз все, и толщину, и высоту, то будет кресло какое-нибудь.

— Сейчас делают как раз. Сейчас их увеличат, будут стоять такие вещи. А вот это похоже на тот пикник, который мы сегодня обсуждали. Я подумал даже, что про Крученых, да, рассказ. Примерно так выглядело, да?
— Только там одного.
— Одного размера?
— Ширина, высота.
— Можно пока посмотреть. Интересно посмотреть все инструменты для работы. Вот тут всё хранится, часть работ какая-то упакована. Столярный даже станок стоит. Здесь работы маленькие для макетов. Есть живопись. Вот этот макет интересный. Если я не ошибаюсь, это на заказ специально делается. В центре будет по развлечению детей, как-то связано. Там хотели взять готовую работу, но это была ниша на стене, и специально Игорь Сергеевич для этой ниши сделал вот эту работу. Довольно нетипичная для него вещь, потому что яркие используются такие цвета, но по технике это, наверное, ассамбляж. То есть это объемная картина из дерева, и живопись, и все совмещено. Вообще такая необычная для него работа. Графика здесь еще, вот посмотрите, такие макеты. Вот еще работа про слоников очень интересная. Тоже я где-то полгода назад Игорю Сергеевичу рассказал, что можно сделать такую группу слоников, а у него был один слоник, и он сделал семь, по-моему, штук, каждый увеличивается по росту. А вот это, кстати, очень интересно. Вот эта вот работа — это макет. Недавно в Третьяковской галерее была выставка Игоря Сергеевича, тут даже написано «ГТГ».
«И по этому макету была выстроена огромная просто инсталляция во весь зал. 38-й зал в Третьяковской галерее, была огромная инсталляция.»

Там можно было даже делать на ней записи, то есть маркером писать. Я был на этой выставке. Но сейчас можно только макет уже посмотреть. Работу разобрали, ее нет. Но обычно у Игоря Сергеевича полностью заполненная работами мастерская. И нам сейчас везет, что мы можем ходить и смотреть на искусство, потому что обычно как-то это действительно очень сложно сделать. Я рассказал. Вы могли бы еще рассказать про вот эту работу? Для чего, для кого?
— Вот сейчас был человек, он врач, у него своя больница. И вот у них какая-то там ниша в коридоре, и он просил что-то сделать. То есть он сначала хотел уже готовую. Ниша-то большая.
— Но, кстати, если мы вернемся к Матиссу, он же тоже делал не просто так работы. Он понимал, что работа должна вести к оздоровлению человека, к отдыху. Это довольно сложно сделать, мне кажется.
«Ну вот я думал, больные — надо что-то радостное»
— Чтобы поднять человеку настроение в том числе.
— Чтобы не серое было с черным и коричневое.
Вопросы от студентов после вебинара
— Я хотела спросить. Ваш такой яркий, очень узнаваемый стиль, вот эти вот макетики деревянные, вот это все такое рубленое, квадратненькое, как вы к этому пришли? Потому что я теперь, если увижу что-то подобное, я буду знать, что это вы или похоже на вас. Как вы пришли к этому единству стиля? Мне кажется, это вообще очень сложно — так найти какой-то свой язык образный. Расскажите, пожалуйста, об этом немножко.
— Одна французская фирма, фирма одежды, у нее такая реклама была, такой лозунг, что жизнь слишком коротка, чтобы одеваться грустно. Я тоже сторонник радостных красок, радостных цветов. Здесь высокое искусство очень часто может быть рядом с самым таким народным искусством. Я думаю, если бы картины Матисса продавали на русских базарах, их эти тетки охотно бы покупали, потому что радует глаз. И наоборот, Матисс очень ценил русскую икону и народное творчество.
- — Мне кажется, что сегодня наше с Игорем Сергеевичем интервью, по идее, должно как раз раскрыть, почему он именно такие работы делает. Поэтому, в общем, вопросы, которые мы обсуждали, они на самом деле связаны. Есть разные представления о том, влияет ли жизнь на искусство человека. Многие художники считают, что не влияет, что искусство у них отдельно от жизни. Но, на мой взгляд, имеет все-таки значение и влияет и то, что человек видит вокруг себя, с кем он общается. Наверное, на него, как на художника, конечно, как-то это влияет. Поэтому мне кажется, что история — она вся складывается, вот мы видим результат жизни. Это очень интересно, мне кажется, как оно все выглядит.Ян Гинзбург
— Большое спасибо. И можно еще один вопросик маленький? Как вы работаете, то есть под музыку, в тишине, в одиночестве? Как ваш процесс работы проходит?
— Приходится работать в одиночестве и в тишине. Но я включаю радио или музыку слушаю иногда.
«В моей работе очень много такой чисто технической работы, то есть надо пилить какое-то дерево, строгать, резать. Это уже техника. Вдохновения особого не нужно. Это не как пианист, который в каждое мгновение должен сосредоточен быть»
— А вы делаете чертеж?
— Нет.
— То есть вы сразу делаете без чертежа, не тратите время на рисунок?
— Для меня бесполезно. Иногда я для себя на память делаю, чтобы не забыть.
— Здравствуйте! У вас здесь в основном эскизы, я так понял, как макеты, а работы часто большой формат имеют?
— Не часто.
— Вот эти макеты которые.
— Мне хотелось бы делать большие работы, но, во-первых, вы видите, у меня уже места нет. У меня было три больших человека. Их взяли сейчас на выставку. Они были до самого потолка. Я шутил, что достиг своего потолка. Но в скульптуре очень-очень важен масштаб, размер. У Семенова-Амурского, кстати, было такое выражение, что величина не есть величие. И я с ним соглашался и думал, что это действительно так. А потом восстал и думаю: вот представьте себе, египетская пирамида, уменьшенная до размеров детского кубика. Какое там величие? Я делаю маленькие скульптуры иногда, человечки, и мне их увеличивают в десять раз. Но это стоит дорого, и место, главное.
— Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть ли какая-то работа, которая для вас значима сейчас и которая с вами идет на протяжении всего вашего творчества? Самая любимая, скажем так, которую вы помните просто, чем-то она вам запомнилась?
— Я даже не знаю, что ответить. Последняя работа — это я вам показывал эту вышку, черная башня. Но и то здесь фокус в том, что я думаю туда сделать электрическую лампочку. Это будет такой контраст.
— Мне, кстати, кажется, она интересная тем, что, с одной стороны, это не макет здания, это какая-то небольшая такая постройка.
— Скульптура.
— Да, выбор в смысле темы, я имею в виду, очень интересный.
— А выбор темы — соединять. Настольная лампа — это всегда символ уюта, домашности, тишины, покоя.
— Да, а тут лагерная вышка настоящая.
— Да, дикость.
— Она примерно вот в таких же размерах будет, да?
— Да я не знаю. Надо с мастером говорить, кто будет делать.
— А кого из современных художников вы цените, кого вы считаете сильным художником, кто вам нравится?
— Аня Желудь. Знаете ее? Очень сильный, хороший художник.
— Практически последователь, может быть? Похоже.
— Нет. Похожи мы все. Как говорится, нет такого предмета или явления, которое не было бы похоже на какой-то другой предмет.
— Есть какая-то преемственность.
— Всё на что-то похоже.
— Покажите еще нам эти флаги. Мне кажется, интересно.
— Флаги — это моя идея добавить зеленый цвет.

— К вот этим трем? Да, это оно?
— Да, да, это. Они все на эту тему.
— Серия. Это флаг. А почему зеленый?
— Почему зеленый? Потому что, во-первых, красивый цвет в сочетании с красным, синим, белым. То есть это эстетически богаче. И, кроме того, зеленый формально потому, что у нас же чуть ли не половина населения — мусульмане. А у мусульман зеленый цвет, так что они тоже имеют право на кусочек флага.
— То есть такая как политическая работа, есть такое?
— Это не политическая, но может.
— А расскажите о каких-нибудь ваших выставках, которые для вас очень важны.
— Для меня очень важна была выставка в 2013 году.
— Ваша персональная?
— Да. Мне напечатали хороший очень каталог. Вот такой был каталог. Много очень цветных работ. В общем, это наиболее полная и разнообразная. У меня было много архитектурных проектов. Даже была целая выставка в музее Щусева, только архитектура. Но часть сюда попала. Вот это я делал проект моего ателье, идеального ателье. Если бы дали кусок земли и были бы средства, то построить где-то в два этажа и там работать.
— Отлично.
— Ведь у нас же совсем другие условия. В Америке знаменитый скульптор — на него работает 100 или 120 человек. Он всем платит зарплату. Он сам…
— Ничего не делает.
— Там такие гигантские скульптуры, он даже их сдвинуть не может. Целая бригада техников всяких.
— Бригадный метод, в общем.
— А у нас я один.
«До сих пор я пока мог все свои скульптуры поднимать»
Подготовила Екатерина Гусева
Share визуальных материалов с благодарностью: igorchelkovski / artpanorama / art-story / nd-ms / virtualrm / histrf / avangardism / mamm-mdf / aroundart / oralhistory / rosphoto / sotsart / 5respublika / artguide / theartnewspaper / squarespace / tretyakovgallery / artinvestment
Share визуальных материалов с благодарностью: igorchelkovski / artpanorama / art-story / nd-ms / virtualrm / histrf / avangardism / mamm-mdf / aroundart / oralhistory / rosphoto / sotsart / 5respublika / artguide / theartnewspaper / squarespace / tretyakovgallery / artinvestment
К ДРУГИМ МАТЕРИАЛАМ
Хотите регулярно получать образовательные материалы «Среды обучения»? Подпишитесь на нашу рассылку! Отправляя свои контактные данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
